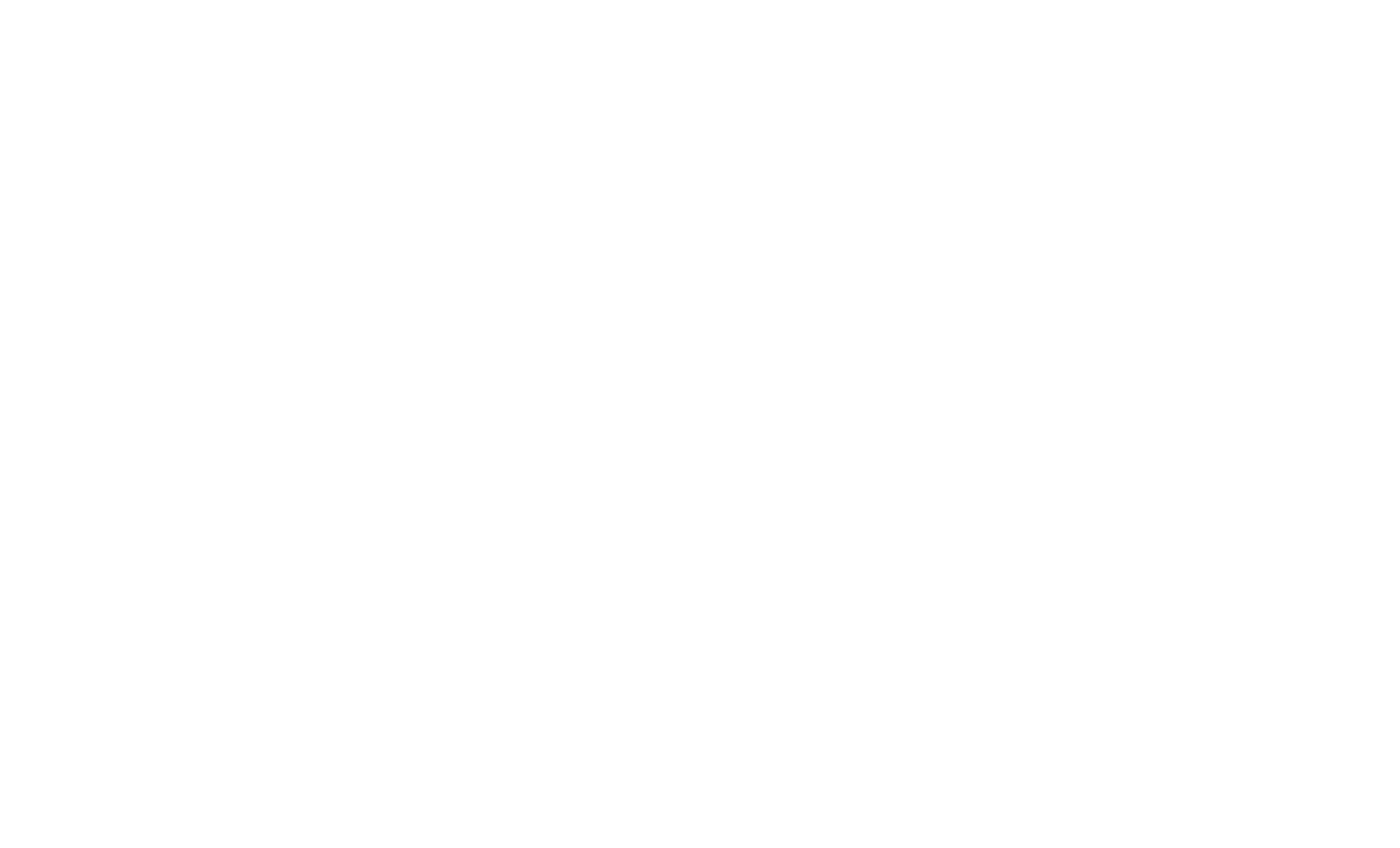Стратегическое неравенство в готовности к будущему: Компетенции, связанные с медиатизацией, как пробел различной глубины в стратегиях развития российских регионов
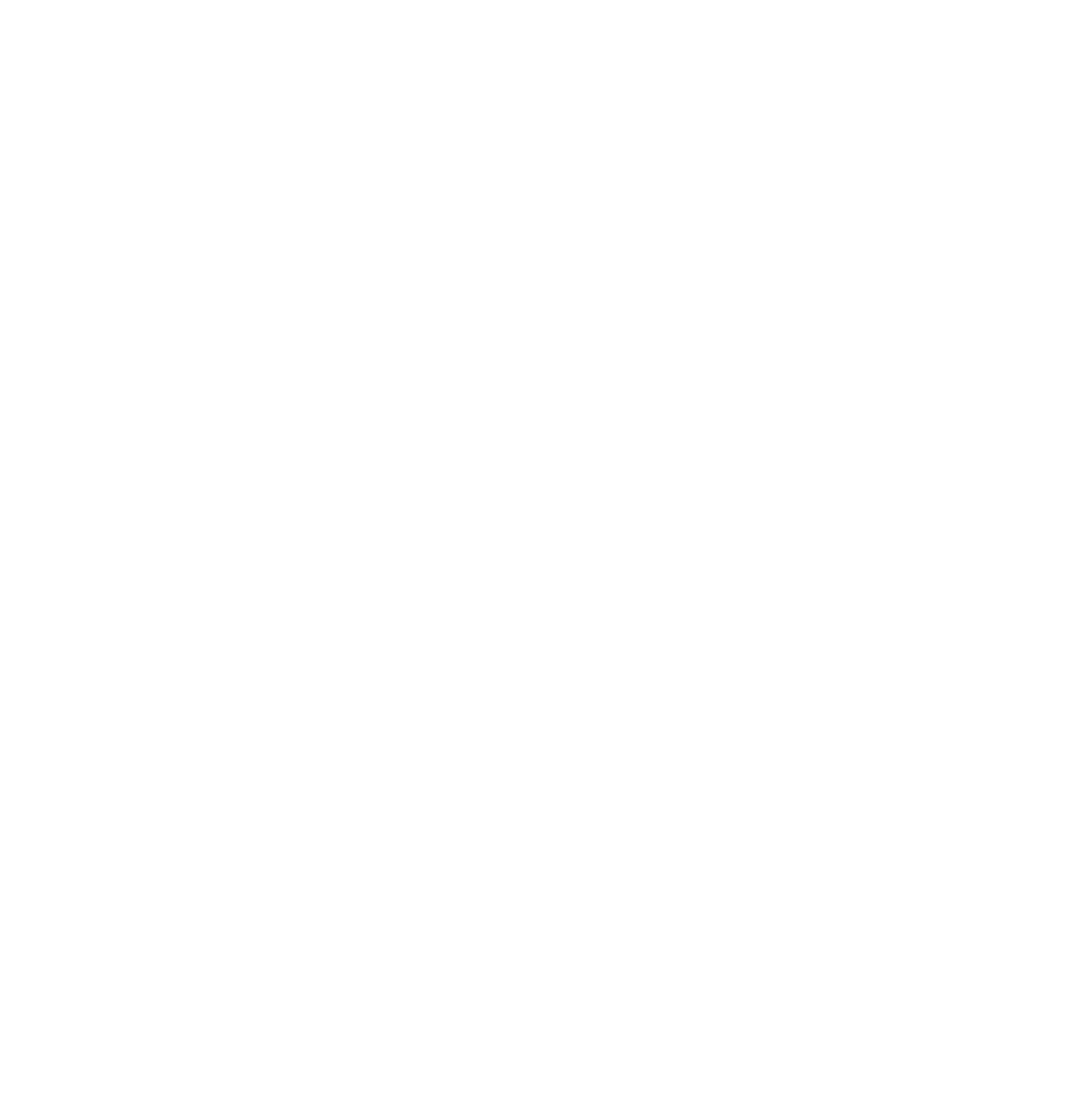
Лаборатория коммуникаций в креативных индустриях
Аннотация
Ключевые слова: Региональное развитие, человеческие ресурсы, медиатизация, компетенции, связанные с медиатизацией, региональная стратегия, Россия
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Считается, что современное развитие микрорегионов в значительной степени зависит от человеческих ресурсов и накопленного человеческого капитала. В последние десятилетия цифровизация стала важнейшим фактором регионального роста, связывая региональное развитие с цифровой трансформацией экономики и цифровыми компетенциями населения. Эти связи стали частью регионального стратегического планирования, однако при разработке стратегий цифрового развития часто упускается важный набор компетенций. Мы называем этот набор компетенциями медиатизации (КМ), поскольку они включают навыки безопасного и грамотного использования медиа и потребления контента, медиатизированного социального общения, взаимодействия с моделями искусственного интеллекта и взаимодействия человека с интерфейсом, включая интеллектуальные интерфейсы.
Мы разрабатываем теорию КМ и демонстрируем, что, взятые вместе, они могут стать ключевым показателем индивидуальной готовности к будущему, в то время как на региональном уровне они сигнализируют о принадлежности региона к определенным этапам социально-экономического развития, а также об экономической стабильности. Исходя из гипотезы, что регионы такой большой и разнообразной страны, как Россия, будут различаться в том, как они разрабатывают стратегии КМ, мы оцениваем стратегии развития 83 российских регионов, установленные на период с 2030 по 2045 год, с помощью смешанного метода кодирования и направленного интерпретативного чтения, и обнаруживаем микро- и макрорегиональные различия в стратегическом подходе к КМ. С помощью корреляционного анализа мы показываем, что наша шкала присутствия КМ в региональных стратегиях соответствует различиям по основным социально-экономическим показателям, включая валовой региональный продукт и уровень высшего образования трудоспособного населения, что подтверждает наше мнение о стратегическом планировании КМ как ключевом элементе человеческого капитала и потенциальном показателе более широкого экономического развития российских регионов. В заключение мы формулируем четыре концептуальных разъединения КМ с цифровой экономикой, человеческим капиталом, политическим участием и потенциалом регионального развития в текстах стратегий регионального развития.
Введение
В современных исследованиях регионального развития во многих странах было отмечено, что конкурентоспособность и успех регионов (как макрорегионов, так и регионов внутри одной страны) зависят от регионального человеческого капитала (Gennaioli et al.,). В подавляющем большинстве недавних межстрановых исследований регионального развития человеческий капитал измеряется по уровню образования, производительности бизнеса (Gennaioli et al., 2013), межрегиональной миграции и привлекательности миграции (Faggian, Modrego, McCann, 2019) или профессиональным навыкам (Mellander & Florida, 2021). Однако это оставляет большой пробел, который заключается в компетенциях человека в области медиатизированного межличностного и публичного общения, потребления медиа, генеративного исследования ИИ и использования интерфейсов. Мы будем называть их «компетенциями, связанными с медиатизацией», поскольку развитие этих четырех областей компетенций является частью широкомасштабного процесса медиатизации современного общества (Hjarvard, 2013; Hepp et al., 2024).
Этот пробел возник, когда такие компетенции уже стали крайне значимыми для повседневной жизни, индивидуального и профессионального совершенствования и социального развития. С конца 2000-х годов аспекты развития человеческого капитала, основанные на информационных технологиях, начали приобретать значение с точки зрения регионального развития только в рамках конкретных исследований, проводимых в отдельных странах (Schaffer & Siegele, 2009). Однако такие исследования остаются редкими и явно недостаточными для определения четкого места компетенций, связанных с медиатизацией, в современном региональном человеческом капитале.
В то же время существует несколько направлений исследований, которые устанавливают более широкие рамки для цифровизации человеческого капитала.
Таким образом, исследования в области человеческих ресурсов сосредоточены на цифровых компетенциях, которые считаются важнейшим компонентом человеческого капитала в Европе (European Commission, 2018), а также в США, Китае и России Однако среди цифровых навыков компетенциям, связанным с повседневным использованием медиа, искусственного интеллекта или интерфейсов, уделяется гораздо меньше внимания, чем цифровым компетенциям, необходимым для определенных профессий, электронного управления или обработки документов. Это не соответствует повседневной практике социализации и досуга как городских, так и сельских жителей, а также растущему политическому значению современной медиатизированной коммуникации и использования медиа (Salleh, 2019).
Перспектива медиатизации описывает современных граждан как колеблющихся между преимуществами и угрозами цифровых технологий и медиа (Miller & Vaccari, 2020). Эта область исследований в большей степени сосредоточена на повседневных компетенциях, связанных с медиатизацией; совместное понимание преимуществ и угроз медиатизации, которое привело к появлению концепции медиаграмотности, широко распространилось в медиаисследованиях (Livingstone, 2004; Potter, 2018). Однако в этой области исследований редко делается решающий шаг по увязыванию медийной грамотности со стратегическим человеческим капиталом. Конечно, есть работы, в которых медийные компетенции рассматриваются как часть человеческого капитала (Jolls & Johnsen, 2017), в том числе работы о Центральной и Восточной Европе (Kuźniar-Żyłka, 2013), но они (1) не связывают ее с региональным развитием и (2) на данный момент не объединяют все компетенции, связанные с медиатизацией, воедино, уделяя основное внимание потреблению медиа и коммуникации в социальных сетях. Таким образом, концептуальная связь, которая определила бы роль компетенций, связанных с медиатизацией, как части человеческого капитала в региональном развитии, не построена.
Медиаграмотность, рассматриваемая с политической точки зрения, также создает перспективу, которая переплетается с цифровым гражданством в партиципаторных демократиях (Mossberger, Tolbert, McNeal, 2007; Mihailidis & Thevenin, 2013).
Этот пробел возник, когда такие компетенции уже стали крайне значимыми для повседневной жизни, индивидуального и профессионального совершенствования и социального развития. С конца 2000-х годов аспекты развития человеческого капитала, основанные на информационных технологиях, начали приобретать значение с точки зрения регионального развития только в рамках конкретных исследований, проводимых в отдельных странах (Schaffer & Siegele, 2009). Однако такие исследования остаются редкими и явно недостаточными для определения четкого места компетенций, связанных с медиатизацией, в современном региональном человеческом капитале.
В то же время существует несколько направлений исследований, которые устанавливают более широкие рамки для цифровизации человеческого капитала.
Таким образом, исследования в области человеческих ресурсов сосредоточены на цифровых компетенциях, которые считаются важнейшим компонентом человеческого капитала в Европе (European Commission, 2018), а также в США, Китае и России Однако среди цифровых навыков компетенциям, связанным с повседневным использованием медиа, искусственного интеллекта или интерфейсов, уделяется гораздо меньше внимания, чем цифровым компетенциям, необходимым для определенных профессий, электронного управления или обработки документов. Это не соответствует повседневной практике социализации и досуга как городских, так и сельских жителей, а также растущему политическому значению современной медиатизированной коммуникации и использования медиа (Salleh, 2019).
Перспектива медиатизации описывает современных граждан как колеблющихся между преимуществами и угрозами цифровых технологий и медиа (Miller & Vaccari, 2020). Эта область исследований в большей степени сосредоточена на повседневных компетенциях, связанных с медиатизацией; совместное понимание преимуществ и угроз медиатизации, которое привело к появлению концепции медиаграмотности, широко распространилось в медиаисследованиях (Livingstone, 2004; Potter, 2018). Однако в этой области исследований редко делается решающий шаг по увязыванию медийной грамотности со стратегическим человеческим капиталом. Конечно, есть работы, в которых медийные компетенции рассматриваются как часть человеческого капитала (Jolls & Johnsen, 2017), в том числе работы о Центральной и Восточной Европе (Kuźniar-Żyłka, 2013), но они (1) не связывают ее с региональным развитием и (2) на данный момент не объединяют все компетенции, связанные с медиатизацией, воедино, уделяя основное внимание потреблению медиа и коммуникации в социальных сетях. Таким образом, концептуальная связь, которая определила бы роль компетенций, связанных с медиатизацией, как части человеческого капитала в региональном развитии, не построена.
Медиаграмотность, рассматриваемая с политической точки зрения, также создает перспективу, которая переплетается с цифровым гражданством в партиципаторных демократиях (Mossberger, Tolbert, McNeal, 2007; Mihailidis & Thevenin, 2013).
Цифровое гражданство подразумевает широкую цифровизацию общества и соответствующее развитие моделей цифрового присутствия граждан и их действий с использованием цифровых технологий. Специалисты по человеческому капиталу высоко ценят цифровые компетенции, что создает связь между человеческим капиталом и медиаграмотностью как частью цифрового гражданства. Однако и в этих исследованиях региональная перспектива не проработана должным образом; скорее, они ориентированы на глобальный или национальный уровень.
Именно поэтому необходимо рассматривать компетенции, связанные с медиатизацией, человеческий капитал и региональное развитие в рамках одной концепции. Региональная перспектива позволяет отказаться от ненужного универсализма и помогает создать сравнительную исследовательскую модель, которая раскрывает более близкое к жизни влияние медиатизации на человеческие ресурсы. Компетенции, связанные с медиатизацией (как часть цифровых компетенций), а также их связь с человеческим капиталом и региональным развитием, должны быть поставлены в центр теоретического внимания.
Эта теоретическая лакуна отражается в управленческой. Учитывая, что академические исследования по региональному развитию коммуникативных компетенций практически отсутствуют, невозможно с уверенностью утверждать, что во многих странах стратегии регионального развития упускают из виду компетенции, связанные с медиатизацией, как важнейший элемент человеческого капитала, имеющий значение как для повседневной жизни, так и для стратегического регионального развития. Однако наше исследование показывает, что в такой большой и разнообразной стране, как Россия, которая относительно высоко развита с точки зрения информационных технологий и цифровизации, компетенции, связанные с медиатизацией, практически игнорируются как стратегические условия и цели регионального развития.
Таким образом, в статье рассматривается взаимосвязь регионального развития, человеческого капитала и компетенций, связанных с медиатизацией, с теоретической и стратегической точки зрения на примере российских регионов. Наше исследование позволяет подробно описать недостаток внимания к КМ в региональных стратегиях. Наше исследование основано на 83 текстах стратегий регионального развития России, рассчитанных на период с 2030 по 2045 год, которые мы оцениваем с помощью смешанного метода контент-анализа, рекомендованного Криппендорфом (2018), а также дискурс-анализа, основанного на работах ван Дейка (2009). Мы также уделяем более пристальное внимание Липецкой области в качестве примера, поскольку этот регион уделяет стратегическое внимание компетенциям, связанным с медиатизацией, даже если и не самым эффективным образом. Этот пример позволяет выявить четыре концептуальных несоответствия КМ концепциям, с которыми они, как ожидалось, должны были быть связаны.
Наша статья построена следующим образом. Во-первых, мы углубляемся в вышеупомянутые области исследований, чтобы более точно определить теоретическую перспективу взаимосвязи регионального развития, человеческого капитала и компетенций, связанных с медиатизацией, как части цифровой трансформации. Во-вторых, мы указываем на важность КМ как потенциальных маркеров развития на двух уровнях: индивидуальном и региональном. В-третьих, мы формируем ожидания, описывая российский социально-экономический и коммуникативный контекст. В-четвертых, мы представляем нашу методологию сбора данных (то есть оценку стратегических документов) и анализа (включающего корреляционный анализ и визуализацию). В-пятых, мы более подробно рассматриваем одну региональную стратегию, чтобы обозначить четыре разрыва между компетенциями, связанными с медиатизацией, и региональным развитием.
Именно поэтому необходимо рассматривать компетенции, связанные с медиатизацией, человеческий капитал и региональное развитие в рамках одной концепции. Региональная перспектива позволяет отказаться от ненужного универсализма и помогает создать сравнительную исследовательскую модель, которая раскрывает более близкое к жизни влияние медиатизации на человеческие ресурсы. Компетенции, связанные с медиатизацией (как часть цифровых компетенций), а также их связь с человеческим капиталом и региональным развитием, должны быть поставлены в центр теоретического внимания.
Эта теоретическая лакуна отражается в управленческой. Учитывая, что академические исследования по региональному развитию коммуникативных компетенций практически отсутствуют, невозможно с уверенностью утверждать, что во многих странах стратегии регионального развития упускают из виду компетенции, связанные с медиатизацией, как важнейший элемент человеческого капитала, имеющий значение как для повседневной жизни, так и для стратегического регионального развития. Однако наше исследование показывает, что в такой большой и разнообразной стране, как Россия, которая относительно высоко развита с точки зрения информационных технологий и цифровизации, компетенции, связанные с медиатизацией, практически игнорируются как стратегические условия и цели регионального развития.
Таким образом, в статье рассматривается взаимосвязь регионального развития, человеческого капитала и компетенций, связанных с медиатизацией, с теоретической и стратегической точки зрения на примере российских регионов. Наше исследование позволяет подробно описать недостаток внимания к КМ в региональных стратегиях. Наше исследование основано на 83 текстах стратегий регионального развития России, рассчитанных на период с 2030 по 2045 год, которые мы оцениваем с помощью смешанного метода контент-анализа, рекомендованного Криппендорфом (2018), а также дискурс-анализа, основанного на работах ван Дейка (2009). Мы также уделяем более пристальное внимание Липецкой области в качестве примера, поскольку этот регион уделяет стратегическое внимание компетенциям, связанным с медиатизацией, даже если и не самым эффективным образом. Этот пример позволяет выявить четыре концептуальных несоответствия КМ концепциям, с которыми они, как ожидалось, должны были быть связаны.
Наша статья построена следующим образом. Во-первых, мы углубляемся в вышеупомянутые области исследований, чтобы более точно определить теоретическую перспективу взаимосвязи регионального развития, человеческого капитала и компетенций, связанных с медиатизацией, как части цифровой трансформации. Во-вторых, мы указываем на важность КМ как потенциальных маркеров развития на двух уровнях: индивидуальном и региональном. В-третьих, мы формируем ожидания, описывая российский социально-экономический и коммуникативный контекст. В-четвертых, мы представляем нашу методологию сбора данных (то есть оценку стратегических документов) и анализа (включающего корреляционный анализ и визуализацию). В-пятых, мы более подробно рассматриваем одну региональную стратегию, чтобы обозначить четыре разрыва между компетенциями, связанными с медиатизацией, и региональным развитием.
Основная часть. Компетенции, связанные с медиатизацией, как стратегический актив регионального развития: теоретический пробел
Техно-цифровизация регионального развития против медиатизации человеческого капитала: в поисках концептуальной основы.
Как указано выше, человеческий капитал сегодня рассматривается как важнейший актив регионального развития. Как для ученых, так и для политиков совершенно очевидно, что цифровизация изменила набор компетенций во многих профессиях и повседневных видах деятельности.
Сегодня развитие человеческого капитала в значительной степени рассматривается в рамках цифровой/знаниевой/креативной экономики. Однако теоретически это не означало развитие крупномасштабных коллективных компетенций; скорее, с начала 2000-х годов в западных исследованиях основное внимание уделялось развитию на личном уровне на протяжении всей жизни, то есть «обучению людей быть частью знаниевой экономики» (Grant, 2007). Эта точка зрения соответствовала представлению о цифровом разрыве и неравенстве как угрозе, ставящей под угрозу конкурентоспособность и качество жизни на индивидуальном уровне (Norris & Inglehart, 2013; Trappel, 2019), а не экономическое процветание общества в целом, несмотря на то, что в более ранних исследованиях (Norris, 2001) и международные НПО прилагали усилия для формирования точки зрения, в которой переплетались индивидуальные компетенции, политические институты и национальный контекст. Эта точка зрения повлияла на понимание цифровых компетенций в основном на индивидуальном уровне, в меньшей степени связанном с массовым развитием компетенций и процветанием общества. Частичным противовесом этой точке зрения, как и следовало ожидать, стал Китай, где «благоприятная инфраструктура, инновации, адаптированные к крупному китайскому рынку, и быстрая коммерциализация продуктов и услуг местными компаниями превратили самое многочисленное население мира в активных онлайн-потребителей» (Jiang & Murmann, 2002: 790). До сегодняшнего дня цифровые компетенции в Китае часто оценивались по их влиянию на большие группы населения, в основном на профессии (Yang, García-Holgado, Martínez-Abad, 2023), в то время как индивидуальный уровень остается в некоторой степени деиндивидуализированным и стандартизированным.
Однако китайский подход можно интерпретировать как «компетенции, вызываемые инфраструктурой», которые в разной степени (и не всегда высокой) успешны в различных цифровых культурах. Этот подход подразумевает, что предоставление инфраструктуры (иногда действительно очень сложной, адаптированной и настроенной под конкретные нужды) приводит к интуитивному освоению людьми предлагаемых технологий, гаджетов, интерфейсов и медийных сред; однако это не всегда верно.
Однако, в то время как западные исследования цифровой экономики в основном фокусировались на развитии компетенций на индивидуальном уровне, несколько других направлений исследований приблизились (даже если они не разработали его до конечного результата) к идее медиатизированного человеческого капитала как совокупного явления, которое потенциально можно измерить для регионов/обществ в сравнительной перспективе. Одно из таких направлений применило концепцию социального капитала Бурдье (Bourdieu, 2008) к технологически усовершенствованным социальным средам. Это привело к концептуальному расширению социального капитала до понятий цифрового, технологического и информационного капитала.
Новые формы капитала впервые появились в исследованиях культурного капитала, которые стремились включить информационные технологии в культурный капитал как основу для его новых форм, даже если не в качестве цифровых компетенций как таковых (Emmison & Flow, 1998). В ранних работах «информационный капитал» (van Dijk, 2005) наиболее часто концептуализировался в формах ИТ-возможностей и ноу-хау (Rojas etal., 2003), концептуально колеблясь между индивидуальным и общинным уровнями. Всего за десятилетие научное сообщество вместе с организациями мирового масштаба начало разрабатывать метрики для капитала знаний и навыков в конкретных областях, включая сам информационный капитал и цифровой разрыв, который был переосмыслен на основе идеи капитала как разница в информационном капитале, включая доступ к технологиям, проникновение Интернета и ИТ-возможностей (опять же, подчеркивая подход «инфраструктура прежде всего» к цифровому развитию), но пока не как цифровые компетенции (van Deursen & Helsper, 2015).
С распространением цифровых технологий в академических кругах появились такие понятия, как «технологический капитал» (Straubhaar et al., 2012; McConnell, 2014) и «цифровой капитал» (Ignatow & Robinson, 2017; Ragnedda, 2018), что позволило связать исследования в области человеческого капитала с исследованиями в области цифровой экономики, а также с исследованиями в области коммуникации (Rojas, Shah, Friedland, 2011; критику см. ниже). Это позволило более эффективно использовать индивидуальные цифровые возможности в качестве параметра развития человеческого капитала на уровне общества. На данный момент «технокапитал» (Ragnedda, 2018; Choi et al., 2021) является термином, который относительно четко концептуализирует отношения между технологиями и человеческим капиталом, в основном фокусируясь на повседневном использовании технологий для роста человеческих способностей, в то время как «цифровой капитал» предоставляет конкурирующие рамки того, как человеческий капитал может быть связан с цифровизацией. И все же, насколько нам известно, не было представлено ни одной концепции, которая бы объединяла компетенции, связанные с медиатизацией (аналогично «технокапиталу»), как часть человеческого капитала.
Многие могут возразить, сославшись на растущее число исследований, в которых используется термин «коммуникационный капитал» в попытке распространить концепции Бурдье на сферу коммуникации. Однако это не та концепция, которая связывает компетенции, связанные с медиатизацией, с человеческим капиталом, и вот почему.
Сегодня развитие человеческого капитала в значительной степени рассматривается в рамках цифровой/знаниевой/креативной экономики. Однако теоретически это не означало развитие крупномасштабных коллективных компетенций; скорее, с начала 2000-х годов в западных исследованиях основное внимание уделялось развитию на личном уровне на протяжении всей жизни, то есть «обучению людей быть частью знаниевой экономики» (Grant, 2007). Эта точка зрения соответствовала представлению о цифровом разрыве и неравенстве как угрозе, ставящей под угрозу конкурентоспособность и качество жизни на индивидуальном уровне (Norris & Inglehart, 2013; Trappel, 2019), а не экономическое процветание общества в целом, несмотря на то, что в более ранних исследованиях (Norris, 2001) и международные НПО прилагали усилия для формирования точки зрения, в которой переплетались индивидуальные компетенции, политические институты и национальный контекст. Эта точка зрения повлияла на понимание цифровых компетенций в основном на индивидуальном уровне, в меньшей степени связанном с массовым развитием компетенций и процветанием общества. Частичным противовесом этой точке зрения, как и следовало ожидать, стал Китай, где «благоприятная инфраструктура, инновации, адаптированные к крупному китайскому рынку, и быстрая коммерциализация продуктов и услуг местными компаниями превратили самое многочисленное население мира в активных онлайн-потребителей» (Jiang & Murmann, 2002: 790). До сегодняшнего дня цифровые компетенции в Китае часто оценивались по их влиянию на большие группы населения, в основном на профессии (Yang, García-Holgado, Martínez-Abad, 2023), в то время как индивидуальный уровень остается в некоторой степени деиндивидуализированным и стандартизированным.
Однако китайский подход можно интерпретировать как «компетенции, вызываемые инфраструктурой», которые в разной степени (и не всегда высокой) успешны в различных цифровых культурах. Этот подход подразумевает, что предоставление инфраструктуры (иногда действительно очень сложной, адаптированной и настроенной под конкретные нужды) приводит к интуитивному освоению людьми предлагаемых технологий, гаджетов, интерфейсов и медийных сред; однако это не всегда верно.
Однако, в то время как западные исследования цифровой экономики в основном фокусировались на развитии компетенций на индивидуальном уровне, несколько других направлений исследований приблизились (даже если они не разработали его до конечного результата) к идее медиатизированного человеческого капитала как совокупного явления, которое потенциально можно измерить для регионов/обществ в сравнительной перспективе. Одно из таких направлений применило концепцию социального капитала Бурдье (Bourdieu, 2008) к технологически усовершенствованным социальным средам. Это привело к концептуальному расширению социального капитала до понятий цифрового, технологического и информационного капитала.
Новые формы капитала впервые появились в исследованиях культурного капитала, которые стремились включить информационные технологии в культурный капитал как основу для его новых форм, даже если не в качестве цифровых компетенций как таковых (Emmison & Flow, 1998). В ранних работах «информационный капитал» (van Dijk, 2005) наиболее часто концептуализировался в формах ИТ-возможностей и ноу-хау (Rojas etal., 2003), концептуально колеблясь между индивидуальным и общинным уровнями. Всего за десятилетие научное сообщество вместе с организациями мирового масштаба начало разрабатывать метрики для капитала знаний и навыков в конкретных областях, включая сам информационный капитал и цифровой разрыв, который был переосмыслен на основе идеи капитала как разница в информационном капитале, включая доступ к технологиям, проникновение Интернета и ИТ-возможностей (опять же, подчеркивая подход «инфраструктура прежде всего» к цифровому развитию), но пока не как цифровые компетенции (van Deursen & Helsper, 2015).
С распространением цифровых технологий в академических кругах появились такие понятия, как «технологический капитал» (Straubhaar et al., 2012; McConnell, 2014) и «цифровой капитал» (Ignatow & Robinson, 2017; Ragnedda, 2018), что позволило связать исследования в области человеческого капитала с исследованиями в области цифровой экономики, а также с исследованиями в области коммуникации (Rojas, Shah, Friedland, 2011; критику см. ниже). Это позволило более эффективно использовать индивидуальные цифровые возможности в качестве параметра развития человеческого капитала на уровне общества. На данный момент «технокапитал» (Ragnedda, 2018; Choi et al., 2021) является термином, который относительно четко концептуализирует отношения между технологиями и человеческим капиталом, в основном фокусируясь на повседневном использовании технологий для роста человеческих способностей, в то время как «цифровой капитал» предоставляет конкурирующие рамки того, как человеческий капитал может быть связан с цифровизацией. И все же, насколько нам известно, не было представлено ни одной концепции, которая бы объединяла компетенции, связанные с медиатизацией (аналогично «технокапиталу»), как часть человеческого капитала.
Многие могут возразить, сославшись на растущее число исследований, в которых используется термин «коммуникационный капитал» в попытке распространить концепции Бурдье на сферу коммуникации. Однако это не та концепция, которая связывает компетенции, связанные с медиатизацией, с человеческим капиталом, и вот почему.
«Коммуникативный капитал» до сих пор интерпретировался несколькими различными способами, но ни один из них не может служить общим термином для четырех типов компетенций, о которых мы говорим выше.
В частности, достаточно большое количество работ показывает, как социальный капитал влияния на индивидуальном уровне растет за счет коммуникации и потребления медиа (Choi et al., 2021), что делает коммуникацию каналом или инструментом для реализации самого социального капитала. Конечно, использование средств коммуникации для продвижения своих взглядов, получения более полной информации или создания связей может изменить природу социального капитала, но эта линия исследований редко фокусируется на компетенциях, связанных с медиатизацией. Ее фокус гораздо больше сосредоточен на последствиях медиатизации социального капитала, включая последствия для стратегической коммуникации, брендинга и продвижения (Декалов, 2017), политического влияния (Рыков, 2013), а также для гражданского участия (Jeffres, Jian, Yoon, 2013) и достоверности новостей (Lee et al., 2020). Эта интерпретация коммуникативного капитала достаточно близка к тому, что российские ученые называют «капиталом публичности» (Шишкина, 1999) — другими словами, влиянием, основанным на репутации и используемым в целях связей с общественностью. Очевидно, что такая интерпретация капитала подразумевает рост влияния того или иного публичного актора, но не означает, что этот рост зависит от компетенций актора; скорее, он зависит от статуса и запланированной публичной деятельности, часто организуемой компетентными профессионалами. Таким образом, групповой и общественный уровни накопления капитала остаются за пределами концепции, что сужает возможности ее применения. По-прежнему необходимо определение, ориентированное на компетенции и связанное с понятием человеческого капитала. Концепция «коммуникативного капитала» также используется в исследованиях, в которых обсуждается влияние медиа-конгломератов как политических и совещательных субъектов капиталистической экономики, что еще более далеко от перспективы человеческого капитала. Единственное немногочисленное направление литературы, которое ближе к этой перспективе, исследует организационные эффекты коммуникативного капитала в крупных организациях. В этих работах «коммуникационный капитал» анализируется как актив (Malmelin, 2007). В таком толковании коммуникационный капитал может быть применен на уровне территории и рассматриваться как актив территориального (например, регионального) развития. Однако эта логика должна быть значительно расширена, чтобы включить аспекты цифровизации и медиатизации.
Другая, постмарксистская линия исследований коммуникативного капитала подчеркивает, что коммуникативный капитал лежит в основе коммуникативного капитализма, описываемого как форма современного капитализма, в которой социальные ценности, имеющие центральное значение для демократии, проявляются через сетевую коммуникацию. Как пишет Дин (2014), «идеи доступа, включения, обсуждения и участия реализуются через расширение, интенсификацию и взаимосвязь глобальных телекоммуникаций» (с. 4). Эта группа академических работ также включает в себя работы, посвященные порабощающему и основанному на доминировании характеру цифрового труда, особенно труда, который остается незамеченным, в то время как люди используют социальные сети в собственных интересах (Fuchs, 2010; Brophy & de Peuter, 2014). В этой линии исследований коммуникативный капитал рассматривается скорее как угроза свободе граждан и экономическому равенству, ставя под сомнение идею о том, что выгоды, приносимые коммуникативными капиталистами, перевешивают новые измерения господства, которые они создают. И здесь, опять же, использование коммуникативных или других компетенций, связанных с медиатизацией, на благо всего общества не является основным предметом научной дискуссии.
Еще одно направление исследований, ориентированное на левые взгляды, представлено работами по цифровому неравенству (Trappel, 2019, и многие другие). Однако зачастую такие работы, по крайней мере частично, следуют «инфраструктурной» логике, описанной выше для Китая. В них прослеживается склонность ставить цифровые, медийные и/или коммуникативные компетенции в причинно-следственную связь с развитием доступа к технологиям и масштабным воздействием технологий на социальное развитие, не акцентируя внимание на сложных взаимоотношениях между развитием инфраструктуры и ростом человеческого капитала. Тем не менее, такие работы могут создать платформу для более нюансированного взгляда на человеческий капитал, связанный с медиатизацией. Некоторые из таких работ, объясняющие влияние как «инфраструктурного», так и индивидуального цифрового капитала на использование медиа и структуру онлайн-сообществ в российских регионах (Рыков, 2015; Гладкова и Ragnedda, 2020), пробудили наш интерес к стратегическому уровню формирования компетенций в них.
Наш обзор был бы неполным без работ, интерпретирующих коммуникативный капитал для политических исследований. Так, Рохас, Шах и Фридланд (2011) представили свой коммуникативный подход к социальному капиталу, рассматривая последний как источник социальной интеграции, который фактически перестраивает понимание капитала из актива, способного изменять поведение и статус человека, а также социальное процветание, в многоуровневый отношенческий параметр социальной сплоченности и источник вовлеченности. Хотя этот подход можно рассматривать как одну из (пост-)лухмановских перспектив, деконструирующих социальную интеграцию и роль СМИ и коммуникации в ней, в то же время он дистанцируется от ориентированного на активы/компетенции понимания капитала на индивидуальном уровне. Таким образом, эта перспектива, несмотря на свою структурную когерентность и демократическую ориентацию, не обеспечивает операционализацию с точки зрения оценки компетенций. Этот обзор ясно показывает, что перспективы коммуникативного капитала фактически игнорируют ориентацию на компетенции и человеческий капитал как актив развития.
В частности, достаточно большое количество работ показывает, как социальный капитал влияния на индивидуальном уровне растет за счет коммуникации и потребления медиа (Choi et al., 2021), что делает коммуникацию каналом или инструментом для реализации самого социального капитала. Конечно, использование средств коммуникации для продвижения своих взглядов, получения более полной информации или создания связей может изменить природу социального капитала, но эта линия исследований редко фокусируется на компетенциях, связанных с медиатизацией. Ее фокус гораздо больше сосредоточен на последствиях медиатизации социального капитала, включая последствия для стратегической коммуникации, брендинга и продвижения (Декалов, 2017), политического влияния (Рыков, 2013), а также для гражданского участия (Jeffres, Jian, Yoon, 2013) и достоверности новостей (Lee et al., 2020). Эта интерпретация коммуникативного капитала достаточно близка к тому, что российские ученые называют «капиталом публичности» (Шишкина, 1999) — другими словами, влиянием, основанным на репутации и используемым в целях связей с общественностью. Очевидно, что такая интерпретация капитала подразумевает рост влияния того или иного публичного актора, но не означает, что этот рост зависит от компетенций актора; скорее, он зависит от статуса и запланированной публичной деятельности, часто организуемой компетентными профессионалами. Таким образом, групповой и общественный уровни накопления капитала остаются за пределами концепции, что сужает возможности ее применения. По-прежнему необходимо определение, ориентированное на компетенции и связанное с понятием человеческого капитала. Концепция «коммуникативного капитала» также используется в исследованиях, в которых обсуждается влияние медиа-конгломератов как политических и совещательных субъектов капиталистической экономики, что еще более далеко от перспективы человеческого капитала. Единственное немногочисленное направление литературы, которое ближе к этой перспективе, исследует организационные эффекты коммуникативного капитала в крупных организациях. В этих работах «коммуникационный капитал» анализируется как актив (Malmelin, 2007). В таком толковании коммуникационный капитал может быть применен на уровне территории и рассматриваться как актив территориального (например, регионального) развития. Однако эта логика должна быть значительно расширена, чтобы включить аспекты цифровизации и медиатизации.
Другая, постмарксистская линия исследований коммуникативного капитала подчеркивает, что коммуникативный капитал лежит в основе коммуникативного капитализма, описываемого как форма современного капитализма, в которой социальные ценности, имеющие центральное значение для демократии, проявляются через сетевую коммуникацию. Как пишет Дин (2014), «идеи доступа, включения, обсуждения и участия реализуются через расширение, интенсификацию и взаимосвязь глобальных телекоммуникаций» (с. 4). Эта группа академических работ также включает в себя работы, посвященные порабощающему и основанному на доминировании характеру цифрового труда, особенно труда, который остается незамеченным, в то время как люди используют социальные сети в собственных интересах (Fuchs, 2010; Brophy & de Peuter, 2014). В этой линии исследований коммуникативный капитал рассматривается скорее как угроза свободе граждан и экономическому равенству, ставя под сомнение идею о том, что выгоды, приносимые коммуникативными капиталистами, перевешивают новые измерения господства, которые они создают. И здесь, опять же, использование коммуникативных или других компетенций, связанных с медиатизацией, на благо всего общества не является основным предметом научной дискуссии.
Еще одно направление исследований, ориентированное на левые взгляды, представлено работами по цифровому неравенству (Trappel, 2019, и многие другие). Однако зачастую такие работы, по крайней мере частично, следуют «инфраструктурной» логике, описанной выше для Китая. В них прослеживается склонность ставить цифровые, медийные и/или коммуникативные компетенции в причинно-следственную связь с развитием доступа к технологиям и масштабным воздействием технологий на социальное развитие, не акцентируя внимание на сложных взаимоотношениях между развитием инфраструктуры и ростом человеческого капитала. Тем не менее, такие работы могут создать платформу для более нюансированного взгляда на человеческий капитал, связанный с медиатизацией. Некоторые из таких работ, объясняющие влияние как «инфраструктурного», так и индивидуального цифрового капитала на использование медиа и структуру онлайн-сообществ в российских регионах (Рыков, 2015; Гладкова и Ragnedda, 2020), пробудили наш интерес к стратегическому уровню формирования компетенций в них.
Наш обзор был бы неполным без работ, интерпретирующих коммуникативный капитал для политических исследований. Так, Рохас, Шах и Фридланд (2011) представили свой коммуникативный подход к социальному капиталу, рассматривая последний как источник социальной интеграции, который фактически перестраивает понимание капитала из актива, способного изменять поведение и статус человека, а также социальное процветание, в многоуровневый отношенческий параметр социальной сплоченности и источник вовлеченности. Хотя этот подход можно рассматривать как одну из (пост-)лухмановских перспектив, деконструирующих социальную интеграцию и роль СМИ и коммуникации в ней, в то же время он дистанцируется от ориентированного на активы/компетенции понимания капитала на индивидуальном уровне. Таким образом, эта перспектива, несмотря на свою структурную когерентность и демократическую ориентацию, не обеспечивает операционализацию с точки зрения оценки компетенций. Этот обзор ясно показывает, что перспективы коммуникативного капитала фактически игнорируют ориентацию на компетенции и человеческий капитал как актив развития.
Медиатизация общества и цифровое гражданство: компетенции или угрозы, связанные с медиатизацией?
Современные общества, особенно в наиболее технологически развитых странах, описываются как медиатизированные (Hjarvard, 2013). Это означает, что логика медиазависимой коммуникации — сегодня социально опосредованной, основанной на интерфейсах и усиленной искусственным интеллектом — переплетается с логикой других подсистем общества, таких как политика, экономика или даже спорт и медицина (Altheide & Snow, 1979), и преобразует их.
Медиатизация меняет гражданство, в том числе то, как современные граждане участвуют в социальной и политической жизни. В новых медиатизированных сферах потребления информации и коммуникации граждане используют новые выгодные способы политической борьбы, выражения недовольства, создания политических объединений и т. д. (Mossberger, Tolbert, McNeal, 2007; Mihailidis & Thevenin, 2013). Именно поэтому рост компетентности в освоении медиатизированной реальности подразумевает не только потребительские, но и партисипативные компетенции — те, которые реинтегрируют пользователей в практику гражданственности через медиатизированную коммуникацию.
Модели цифрового присутствия и цифровых действий граждан в значительной степени зависят от их компетентности в области использования медиа, медиатизированной коммуникации и (в ближайшем будущем) применения ИИ.
Компетенции участия, сформированные медиатизацией, можно рассматривать как часть более широкого спектра цифровых компетенций, как это концептуализировано в исследованиях цифрового гражданства (Chen etal., 2021). Однако доступ к технологиям имеет и свою темную сторону, которая концептуализируется через цифровые угрозы (Miller & Vaccari, 2020). Некоторые работы показывают, что граждане колеблются между цифровыми возможностями и цифровыми угрозами, но переосмыслить противодействие цифровым угрозам возможно также как еще один вид цифровых компетенций.
Медиатизация меняет гражданство, в том числе то, как современные граждане участвуют в социальной и политической жизни. В новых медиатизированных сферах потребления информации и коммуникации граждане используют новые выгодные способы политической борьбы, выражения недовольства, создания политических объединений и т. д. (Mossberger, Tolbert, McNeal, 2007; Mihailidis & Thevenin, 2013). Именно поэтому рост компетентности в освоении медиатизированной реальности подразумевает не только потребительские, но и партисипативные компетенции — те, которые реинтегрируют пользователей в практику гражданственности через медиатизированную коммуникацию.
Модели цифрового присутствия и цифровых действий граждан в значительной степени зависят от их компетентности в области использования медиа, медиатизированной коммуникации и (в ближайшем будущем) применения ИИ.
Компетенции участия, сформированные медиатизацией, можно рассматривать как часть более широкого спектра цифровых компетенций, как это концептуализировано в исследованиях цифрового гражданства (Chen etal., 2021). Однако доступ к технологиям имеет и свою темную сторону, которая концептуализируется через цифровые угрозы (Miller & Vaccari, 2020). Некоторые работы показывают, что граждане колеблются между цифровыми возможностями и цифровыми угрозами, но переосмыслить противодействие цифровым угрозам возможно также как еще один вид цифровых компетенций.
В медиаисследованиях совместное понимание возможностей и угроз медиатизации, а также низкий уровень медиакомпетенций и отставание в освоении технологий привели к необходимости развития медиаграмотности (опять же, как части более широкого или сосуществующего понятия цифровой грамотности; Livingstone, 2004; Potter, 2018). Медиаграмотность рассматривается как актив, ресурс и предварительное условие цифрового гражданства, создавая сложные и иногда взаимозависимые отношения с последним (Hunt, 2023). Эта связь должна стать предметом будущих исследований и частично определила наш текущий исследовательский дизайн.
В рамках исследований медийной/цифровой грамотности существует направление, которое связывает медийные компетенции с человеческим капиталом с ориентацией на компетенции (Jolls & Johnsen, 2017). Однако для расширения понятия медийной грамотности до человеческого капитала необходимо сделать три важных концептуальных шага.
Во-первых, медиаграмотность необходимо рассматривать как совокупность компетенций как потребительского, так и партисипативного характера. Необходимо провести научную дискуссию о том, как разграничить медиагигиену и медиаграмотность с точки зрения как потребителя, так и участника. Во-вторых, все компетенции, связанные с медиатизацией, необходимо объединить под одной крышей; для этого медиаграмотность и коммуникативные навыки необходимо дополнить навыками использования генеративного искусственного интеллекта (genAI) и AI-гигиены, а также навыками взаимодействия человека с компьютером и использования интерфейса. И, в-третьих, необходимо сделать важный шаг по увязке медиаграмотности в обоих ее проявлениях как части стратегического человеческого капитала с региональным (и более широким общественным) развитием. Мы считаем, что эти концептуальные дополнения создают основу для оценки того, как регионы мира, страны и их отдельные части развивают такие компетенции — скорее как существующий актив и/или ресурс, цель развития, предварительное условие для других целей развития или угроза, которой необходимо противостоять.
В рамках исследований медийной/цифровой грамотности существует направление, которое связывает медийные компетенции с человеческим капиталом с ориентацией на компетенции (Jolls & Johnsen, 2017). Однако для расширения понятия медийной грамотности до человеческого капитала необходимо сделать три важных концептуальных шага.
Во-первых, медиаграмотность необходимо рассматривать как совокупность компетенций как потребительского, так и партисипативного характера. Необходимо провести научную дискуссию о том, как разграничить медиагигиену и медиаграмотность с точки зрения как потребителя, так и участника. Во-вторых, все компетенции, связанные с медиатизацией, необходимо объединить под одной крышей; для этого медиаграмотность и коммуникативные навыки необходимо дополнить навыками использования генеративного искусственного интеллекта (genAI) и AI-гигиены, а также навыками взаимодействия человека с компьютером и использования интерфейса. И, в-третьих, необходимо сделать важный шаг по увязке медиаграмотности в обоих ее проявлениях как части стратегического человеческого капитала с региональным (и более широким общественным) развитием. Мы считаем, что эти концептуальные дополнения создают основу для оценки того, как регионы мира, страны и их отдельные части развивают такие компетенции — скорее как существующий актив и/или ресурс, цель развития, предварительное условие для других целей развития или угроза, которой необходимо противостоять.
Компетенции, связанные
с медиатизацией
с медиатизацией
Именно поэтому в данной статье мы предлагаем термин «компетенции медиатизации» (КМ). КМ включают в себя компетенции, связанные с четырьмя типами деятельности.
Выделяя эти аспекты КМ, мы создаем концептуальную линию, которая поможет определить роль компетенций, связанных с медиатизацией, как части человеческого капитала в региональном развитии (и за его пределами). Этот четырехкомпонентный комплекс компетенций КМ будет в центре нашего внимания при оценке стратегий развития российских регионов.
Выделяя эти аспекты КМ, мы создаем концептуальную линию, которая поможет определить роль компетенций, связанных с медиатизацией, как части человеческого капитала в региональном развитии (и за его пределами). Этот четырехкомпонентный комплекс компетенций КМ будет в центре нашего внимания при оценке стратегий развития российских регионов.
- Использование медиаБезопасное и плодотворное навигация по медиа-контенту и его потребление, медиаграмотность и медиагигиена, включая распознавание фейковых новостей и самоконтроль в условиях информационной перегрузки
- Медиатизированная социальная коммуникацияБезопасное и плодотворное использование контента и социальных коммуникационных платформ для многоуровневого общения, от межличностного до институционального
- Использование genAI в повседневных целях, не включая профессиональные и/или образовательные компетенции в области ИИCоздание подсказок и проверка ответов (включая текстовые и визуальные галлюцинации ИИ; Sun et al., 2024);
- Взаимодействие с передовыми технологиями HCI/интерфейсами (от мобильных приложений до мультимодальных интерфейсов, чат-ботов, облачных хранилищ, VR/AR и т. д.Навыки навигации, прямое использование интерфейса, гигиена интерфейса и навыки настройки интерфейса.
КМ как маркеры развития
Продолжая концептуализацию КМ, нам необходимо установить еще два аспекта нашей концептуальной рамки, которые вытекают из обзора литературы и позволяют лучше связать КМ с человеческим капиталом и региональным развитием.
Во-первых, это логика рассмотрения КМ как цели развития, актива, предварительного условия или угрозы. Это концептуальное измерение подразумевает, в частности, что не все развитие КМ обязательно выгодно для общества, и в некоторых случаях высокоразвитые компетенции (например, навыки, не связанные с этикой использования или техникой безопасности), так же как и недоразвитие КМ, могут привести к возникновению дополнительных цифровых угроз, которым необходимо противодействовать стратегически. Это также подразумевает, что на региональном уровне одни и те же компетенции могут рассматриваться по-разному: их рассмотрение как цели развития само по себе может контрастировать с их рассмотрением как актива или предварительного условия для развития других компетенций или социальных выгод. Кроме того, рассмотрение их либо как одной из конечных целей роста человеческого капитала, либо только как промежуточного этапа в развитии других компетенций (выживание/уровень жизни, профессиональные/конкурентные, социально-адаптационные, партисипативные и т. д.) может привести к расхождению в логике развития КМ: В первом случае логика подразумевала бы создание мер для роста компетенций (например, образовательных центров и программ), в то время как во втором случае она подразумевала бы логику, более ориентированную на инфраструктуру (например, обеспечение доступа к технологиям и информации, предоставление цифровых услуг и т. д.).
Во-вторых, мы утверждаем (и постараемся частично проверить это утверждение), что именно КМ определяют общую готовность к будущему как минимум на двух уровнях, а именно на индивидуальном и кадровом (который для различных аналитических целей можно интерпретировать как социально-групповой или территориальный уровень).
На индивидуальном уровне развитие КМ можно рассматривать как ключевой показатель личностного развития, ориентированного на будущее или прошлое. Для нас КМ явно обозначают индивидуальную готовность к будущему в данный момент социальной истории. Структура КМ может меняться со временем, поскольку могут появляться новые компетенции, связанные с медиатизацией, но они останутся структурирующим фактором повседневной социальной ориентации и адаптации, социальной связанности, личной вовлеченности в технологически продвинутые публичные сферы, баланса между домом и работой, а также моделей потребления, образования и досуга (по крайней мере). Другими словами, чем больше человек разбирается в использовании передовых медиа, платформенной коммуникации, использовании genAI для повседневных задач и подключении к передовым мультимодальным интеллектуальным интерфейсам, тем больше шансов, что такие люди будут развивать свои социальные связи, баланс между домом и работой, профессиональные навыки, образовательные ориентации и практики досуга современными способами.
Во-первых, это логика рассмотрения КМ как цели развития, актива, предварительного условия или угрозы. Это концептуальное измерение подразумевает, в частности, что не все развитие КМ обязательно выгодно для общества, и в некоторых случаях высокоразвитые компетенции (например, навыки, не связанные с этикой использования или техникой безопасности), так же как и недоразвитие КМ, могут привести к возникновению дополнительных цифровых угроз, которым необходимо противодействовать стратегически. Это также подразумевает, что на региональном уровне одни и те же компетенции могут рассматриваться по-разному: их рассмотрение как цели развития само по себе может контрастировать с их рассмотрением как актива или предварительного условия для развития других компетенций или социальных выгод. Кроме того, рассмотрение их либо как одной из конечных целей роста человеческого капитала, либо только как промежуточного этапа в развитии других компетенций (выживание/уровень жизни, профессиональные/конкурентные, социально-адаптационные, партисипативные и т. д.) может привести к расхождению в логике развития КМ: В первом случае логика подразумевала бы создание мер для роста компетенций (например, образовательных центров и программ), в то время как во втором случае она подразумевала бы логику, более ориентированную на инфраструктуру (например, обеспечение доступа к технологиям и информации, предоставление цифровых услуг и т. д.).
Во-вторых, мы утверждаем (и постараемся частично проверить это утверждение), что именно КМ определяют общую готовность к будущему как минимум на двух уровнях, а именно на индивидуальном и кадровом (который для различных аналитических целей можно интерпретировать как социально-групповой или территориальный уровень).
На индивидуальном уровне развитие КМ можно рассматривать как ключевой показатель личностного развития, ориентированного на будущее или прошлое. Для нас КМ явно обозначают индивидуальную готовность к будущему в данный момент социальной истории. Структура КМ может меняться со временем, поскольку могут появляться новые компетенции, связанные с медиатизацией, но они останутся структурирующим фактором повседневной социальной ориентации и адаптации, социальной связанности, личной вовлеченности в технологически продвинутые публичные сферы, баланса между домом и работой, а также моделей потребления, образования и досуга (по крайней мере). Другими словами, чем больше человек разбирается в использовании передовых медиа, платформенной коммуникации, использовании genAI для повседневных задач и подключении к передовым мультимодальным интеллектуальным интерфейсам, тем больше шансов, что такие люди будут развивать свои социальные связи, баланс между домом и работой, профессиональные навыки, образовательные ориентации и практики досуга современными способами.
Таким образом, КМ могут стать уникальным и ключевым маркером продвинутой социализации, которая, в свою очередь, в значительной степени влияет на способы производства и распределения богатства. Более того, развитие навыков, связанных с медиатизацией, а также угрозы могут лишь частично зависеть от развития окружающей экономики — именно поэтому дети в Дагестане и Москве могут в равной степени подвергаться чрезмерной гаджетизации. Таким образом, комплекс КМ сам по себе является измерением неравенства, которое имеет широкие последствия в ноономических обществах нового тысячелетия (Бодрунов, 2024).
Поэтому отказ от развития медиатизированного человека более безопасными и ориентированными на будущее способами означает упущенную возможность уменьшить неравенство и потерять важный конкурентный преимущество, в то время как развитие комплекса КМ должно стать неотъемлемой целью региональных стратегий не только в России.
Таким образом, на территориальном уровне комплекс КМ может служить как целью развития (благодаря своей роли структурирующего агента готовности к будущему), так и маркером этапов экономического развития и/или макроволн технологических изменений. Например, жизнь преимущественно в «телевизионную эпоху» может быть признаком более общего отставания в развитии технологий в окружающей жизни (включая недостаток доступа к Интернету, устаревшие производственные технологии и традиционные образовательные среды), а также показателем финансового неравенства в доступе к передовым гаджетам и нечеловеческим агентам, а также к получению навыков, помогающих ими пользоваться. Чтобы изучить потенциальные многомерные и многонаправленные связи между развитием КМ и более широкими социально-экономическими порядками в странах и регионах, необходимо исследовать корреляцию и причинно-следственную связь между КМ и другими показателями социального благополучия и регионального развития. Мы частично рассматриваем их в нашем дальнейшем исследовательском проекте, проверяя, коррелирует ли развитие КМ (не устанавливая причинно-следственные связи) с экономическими и образовательными показателями или региональным развитием.
Таким образом, в данной статье мы исследуем комплекс КМ для российских регионов, используя четырехмерный комплекс, переплетенный с логикой их рассмотрения как актива/цели/предпосылки/угрозы развития. Но прежде, чем исследовать сами стратегии, мы сначала определим некоторые ожидания, описав российский социально-экономический контекст и контекст общественной коммуникации, что поможет сформировать наши ожидания от стратегий.
Поэтому отказ от развития медиатизированного человека более безопасными и ориентированными на будущее способами означает упущенную возможность уменьшить неравенство и потерять важный конкурентный преимущество, в то время как развитие комплекса КМ должно стать неотъемлемой целью региональных стратегий не только в России.
Таким образом, на территориальном уровне комплекс КМ может служить как целью развития (благодаря своей роли структурирующего агента готовности к будущему), так и маркером этапов экономического развития и/или макроволн технологических изменений. Например, жизнь преимущественно в «телевизионную эпоху» может быть признаком более общего отставания в развитии технологий в окружающей жизни (включая недостаток доступа к Интернету, устаревшие производственные технологии и традиционные образовательные среды), а также показателем финансового неравенства в доступе к передовым гаджетам и нечеловеческим агентам, а также к получению навыков, помогающих ими пользоваться. Чтобы изучить потенциальные многомерные и многонаправленные связи между развитием КМ и более широкими социально-экономическими порядками в странах и регионах, необходимо исследовать корреляцию и причинно-следственную связь между КМ и другими показателями социального благополучия и регионального развития. Мы частично рассматриваем их в нашем дальнейшем исследовательском проекте, проверяя, коррелирует ли развитие КМ (не устанавливая причинно-следственные связи) с экономическими и образовательными показателями или региональным развитием.
Таким образом, в данной статье мы исследуем комплекс КМ для российских регионов, используя четырехмерный комплекс, переплетенный с логикой их рассмотрения как актива/цели/предпосылки/угрозы развития. Но прежде, чем исследовать сами стратегии, мы сначала определим некоторые ожидания, описав российский социально-экономический контекст и контекст общественной коммуникации, что поможет сформировать наши ожидания от стратегий.
Регионы России:
Постсоветское разноскоростное развитие и общественные коммуникации
Постсоветское разноскоростное развитие и общественные коммуникации
Многоскоростная модернизация российских регионов: «четыре России»
и их региональные аспекты
и их региональные аспекты
Благодаря своей обширности и различиям между регионами, региональное развитие России на протяжении десятилетий находится в центре внимания как академических исследований, так и промышленной/государственной аналитики. Многие из таких исследований показывают, что, по крайней мере, с конца советского периода Россия переживает многоскоростное социально-экономическое развитие, что привело к сосуществованию технологических волн, исторически принадлежащих к разным векам, на одной (пусть и обширной) территории (например, северные районы с племенными, близкими к природе хозяйствами и постиндустриальная и постмодернистская Москва).
Этот многоскоростной переход к пятой и шестой технологическим волнам (Бодрунов, 2024) сопровождался многомерной социально-экономической кластеризацией регионов (Зубаревич, 2011, 2019a), в том числе с точки зрения моделей распределения труда и личного экономического поведения, включая конкуренцию и потребление (Зубаревич, 2019b). Известный российский экономический географ Наталья Зубаревич даже заявила, что сосуществовали «четыре России» (2011), то есть четыре группы российских регионов с парадигматическими различиями в уровне благосостояния, статусе донора/получателя федерального бюджета, экономическом поведении граждан и моделях распределения труда.
Более того, социально-экономические различия шли параллельно — или, скорее, взаимозависимо — с разрывом в социальных ценностях и соответствующих социальных макрогруппах. Так, в 2011 году Зубаревич выделила космополитическую, постсоветскую, сельскую Россию и Россию наций, каждая из которых имела свой набор социально-экономических и социально-политических ценностей.
Этот многоскоростной переход к пятой и шестой технологическим волнам (Бодрунов, 2024) сопровождался многомерной социально-экономической кластеризацией регионов (Зубаревич, 2011, 2019a), в том числе с точки зрения моделей распределения труда и личного экономического поведения, включая конкуренцию и потребление (Зубаревич, 2019b). Известный российский экономический географ Наталья Зубаревич даже заявила, что сосуществовали «четыре России» (2011), то есть четыре группы российских регионов с парадигматическими различиями в уровне благосостояния, статусе донора/получателя федерального бюджета, экономическом поведении граждан и моделях распределения труда.
Более того, социально-экономические различия шли параллельно — или, скорее, взаимозависимо — с разрывом в социальных ценностях и соответствующих социальных макрогруппах. Так, в 2011 году Зубаревич выделила космополитическую, постсоветскую, сельскую Россию и Россию наций, каждая из которых имела свой набор социально-экономических и социально-политических ценностей.
К этому мы бы добавили ценностные различия между прозападной и «патриотической» ориентацией, принятием инноваций и стремлением к стабильности, самодостаточностью и зависимостью от работодателя, а также либеральными и «традиционными» культурными моделями (автор1 и соавтор, 2015).
Позже Зубаревич скорректировала свою концепцию «четырех России», поскольку, по ее словам, первая фаза украинского конфликта противопоставила «первую», постмодернистскую и постиндустриальную Россию трем другим. Сегодня региональные различия остаются резкими, но Зубаревич и ее коллеги предпочитают структурировать регионы в большей степени в соответствии с их макроэкономическими показателями, выделяя группы лидирующих, средних и отстающих регионов (Зубаревич, 2019a, 2019b).
Анализ Зубаревич, а также исследования российского регионального человеческого капитала показывают, что российские регионы развивают человеческие компетенции, в том числе цифровые и КМ, в разной степени и в разных формах, в зависимости от того, к какой группе данный регион принадлежит с точки зрения экономического процветания и базовой модели социальных ценностей. Таким образом, можно ожидать, что степень освоения КМ на индивидуальном уровне в различных регионах России будет определяться не только традиционными социально-демографическими показателями, такими как возраст, пол, образование или доход, но и будет зависеть от сложных, многомерных региональных различий, подобных «четырем России», которые включают уровень постиндустриального развития, доступ к технологиям, принятие инноваций, доминирующие траектории трудовой деятельности, социокультурные ценностные установки и т. д. Таким образом, мы ожидаем разного уровня внимания к КМ со стороны региональных властей, поскольку разные группы регионов будут демонстрировать соответствующие уровни развития КМ, в связи с чем регионы будут требовать большего или меньшего внимания к КМ как постиндустриальным компетенциям.
Позже Зубаревич скорректировала свою концепцию «четырех России», поскольку, по ее словам, первая фаза украинского конфликта противопоставила «первую», постмодернистскую и постиндустриальную Россию трем другим. Сегодня региональные различия остаются резкими, но Зубаревич и ее коллеги предпочитают структурировать регионы в большей степени в соответствии с их макроэкономическими показателями, выделяя группы лидирующих, средних и отстающих регионов (Зубаревич, 2019a, 2019b).
Анализ Зубаревич, а также исследования российского регионального человеческого капитала показывают, что российские регионы развивают человеческие компетенции, в том числе цифровые и КМ, в разной степени и в разных формах, в зависимости от того, к какой группе данный регион принадлежит с точки зрения экономического процветания и базовой модели социальных ценностей. Таким образом, можно ожидать, что степень освоения КМ на индивидуальном уровне в различных регионах России будет определяться не только традиционными социально-демографическими показателями, такими как возраст, пол, образование или доход, но и будет зависеть от сложных, многомерных региональных различий, подобных «четырем России», которые включают уровень постиндустриального развития, доступ к технологиям, принятие инноваций, доминирующие траектории трудовой деятельности, социокультурные ценностные установки и т. д. Таким образом, мы ожидаем разного уровня внимания к КМ со стороны региональных властей, поскольку разные группы регионов будут демонстрировать соответствующие уровни развития КМ, в связи с чем регионы будут требовать большего или меньшего внимания к КМ как постиндустриальным компетенциям.
Цифровизация в российских регионах
Именно в этих условиях социально-экономической и социально-политической фрагментации цифровая трансформация и цифровизация стали показателем регионального развития и конкурентоспособности (Свистунова и др., 2019), превратившись в новое измерение неравенства, а не в «великий уравнитель». Однако они также рассматриваются как предварительное условие регионального развития, в том числе развития человеческого капитала. В соответствии с вышесказанным, во многих русскоязычных работах, посвященных развитию российских регионов, цифровые компетенции и навыки также описываются как цель развития сама по себе или как источник для развития других аспектов человеческого капитала и, в более общем плане, регионального прогресса.
В конце 2010-х годов Россия отставала от большинства развитых стран в плане перехода на цифровые технологии и развития человеческого капитала в связи с использованием ими информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для регионального развития, особенно в сельской местности (Минаев и Жарова, 2021). Однако на сегодняшний день во всех федеральных округах России созданы условия для безбарьерного использования ИКТ в повседневной жизни. Таким образом, уровень использования персональных компьютеров достигает более 87% даже в зонах с наибольшей труднодоступностью; Уровень использования Интернета не опускается ниже 91% (при этом самые низкие показатели зафиксированы в Сибири); даже использование ИКТ для связи с органами власти (включая использование предоставляемых государством онлайн-сервисов, собранных на веб-портале gosuslugi.ru) варьировался от 64% до почти 88% в 2022 году (Бородкин, 2024: 94-96).
В конце 2010-х годов Россия отставала от большинства развитых стран в плане перехода на цифровые технологии и развития человеческого капитала в связи с использованием ими информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для регионального развития, особенно в сельской местности (Минаев и Жарова, 2021). Однако на сегодняшний день во всех федеральных округах России созданы условия для безбарьерного использования ИКТ в повседневной жизни. Таким образом, уровень использования персональных компьютеров достигает более 87% даже в зонах с наибольшей труднодоступностью; Уровень использования Интернета не опускается ниже 91% (при этом самые низкие показатели зафиксированы в Сибири); даже использование ИКТ для связи с органами власти (включая использование предоставляемых государством онлайн-сервисов, собранных на веб-портале gosuslugi.ru) варьировался от 64% до почти 88% в 2022 году (Бородкин, 2024: 94-96).
Основываясь на данных Росстата, Бородкин (2024) подчеркивает отсутствие существенного цифрового неравенства между российскими регионами; более того, в период с 2018 по 2022 год он отмечает «постепенный рост цифровизации во всех регионах Российской Федерации» (2024: 88).
Однако другие исследования показывают, что в 2020-х годах федеральные округа России (каждый из которых включает в себя несколько регионов) будут достаточно сильно различаться по степени цифрового неравенства и возможностям накопления индивидуального цифрового капитала (Гладкова & Ragnedda, 2020). В 2010-х годах они различались по доступу к смартфонам и высокоскоростному Интернету в организациях (Гладкова, Вартанова, Ragnedda, 2020), в то время как коммуникационные платформы социальных сетей уже были доступны по всей стране, даже если использовались по-разному. Сегодня различия в охвате цифровыми технологиями только начинают постепенно уменьшаться. Таким образом, мы ожидаем, что регионы уделят свое стратегическое внимание развитию цифровых навыков нового уровня, выходящих за рамки повседневного использования государственных услуг и/или социальных сетей; они, например, сосредоточатся на использовании приложений / суперприложений для интегрированных сервисов, опосредованной/виртуальной/дополненной реальности (VR/AR) исследование, обучение с помощью платформ дистанционного обучения или общение по-человечески и развитие отношений по-человечески с использованием крупных языковых моделей (что уже находится в центре внимания ученых и политиков, например, в Китае).
Однако другие исследования показывают, что в 2020-х годах федеральные округа России (каждый из которых включает в себя несколько регионов) будут достаточно сильно различаться по степени цифрового неравенства и возможностям накопления индивидуального цифрового капитала (Гладкова & Ragnedda, 2020). В 2010-х годах они различались по доступу к смартфонам и высокоскоростному Интернету в организациях (Гладкова, Вартанова, Ragnedda, 2020), в то время как коммуникационные платформы социальных сетей уже были доступны по всей стране, даже если использовались по-разному. Сегодня различия в охвате цифровыми технологиями только начинают постепенно уменьшаться. Таким образом, мы ожидаем, что регионы уделят свое стратегическое внимание развитию цифровых навыков нового уровня, выходящих за рамки повседневного использования государственных услуг и/или социальных сетей; они, например, сосредоточатся на использовании приложений / суперприложений для интегрированных сервисов, опосредованной/виртуальной/дополненной реальности (VR/AR) исследование, обучение с помощью платформ дистанционного обучения или общение по-человечески и развитие отношений по-человечески с использованием крупных языковых моделей (что уже находится в центре внимания ученых и политиков, например, в Китае).
HCI, использование интерфейсов и genAI распространяются в российских регионах
Однако такое понимание может замедлиться из-за того, как HCI, включая использование и разработку интерфейсов, до сих пор развивались в России. Несмотря на достаточно развитую IT-индустрию и образование, Россия сегодня не входит в число ведущих стран по производству гаджетов, интерфейсов или приложений для повседневного использования. Разрыв между самоподдерживающимся передовым производством промышленных и военных интерфейсов, с одной стороны, и производством интерфейсов и приложений для гражданского использования, с другой, поразительно напоминает позднесоветское передовое развитие космической и военной промышленности на фоне слаборазвитого гражданского производства, которое, в постсоветское время потребовалась масштабная конверсия военных технологий для гражданского использования. Более того, для России парадоксальным образом было отмечено, что внедрение передовых ИКТ в практику электронного управления не привело к устойчивому повышению качества государственного управления (Жеребцов, 2016). Автор объяснил это политическими факторами, такими как доминирующая в стране модель вертикальной интеграции управления; однако региональные различия не были изучены. Это, в частности, ставит вопрос о сложности факторов, лежащих в основе развития компетенций КМ, основанных на широком участии.
Кроме того, мы должны отметить поразительное отсутствие текущих исследований по продуктам на основе интерфейсов, использованию интеллектуальных интерфейсов и genAI в России. Нам не удалось найти никаких опросов или других данных о массовом использовании таких технологических достижений, как индивидуальные мобильные приложения (например, для здравоохранения или выживания), 3-5D/VR/AR, платформы дистанционного обучения, онлайн-конференции и образовательные инструменты, средства распознавания речи и мультимодальные интерфейсы (в то время как несколько промышленных и академических организаций занимаются их передовым производством, в основном для нужд крупной промышленности (см. Карпов и Юсупов, 2018), Интернета вещей и т.д.
Кроме того, мы должны отметить поразительное отсутствие текущих исследований по продуктам на основе интерфейсов, использованию интеллектуальных интерфейсов и genAI в России. Нам не удалось найти никаких опросов или других данных о массовом использовании таких технологических достижений, как индивидуальные мобильные приложения (например, для здравоохранения или выживания), 3-5D/VR/AR, платформы дистанционного обучения, онлайн-конференции и образовательные инструменты, средства распознавания речи и мультимодальные интерфейсы (в то время как несколько промышленных и академических организаций занимаются их передовым производством, в основном для нужд крупной промышленности (см. Карпов и Юсупов, 2018), Интернета вещей и т.д.
То же самое можно сказать и об использовании genAI, несмотря на общую доступность как международных (от CahtGPT до DeepSeek), так и русскоязычных (YandexGPT, Sber GPT) языковых моделей, а также их быстрое проникновение в повседневную практику и более привычные сервисы, такие как веб-поиск, потребление художественного контента или онлайн-трансляция. продажи. Таким образом, у российских регионов нет данных для постановки каких-либо стратегических целей в области использования расширенного интерфейса/искусственного интеллекта, поскольку они, очевидно, не осведомлены о современном потреблении и использовании передовых технологий, связанных с медиатизацией, в своих регионах.
То же самое можно сказать и о гигиене интерфейса, genAI и безопасности пользователя. Гигиена интерфейса должна учитывать чрезмерное использование интерфейса и его последствия, а также различные условия эксплуатации интерфейса, включая домашние, офисные и образовательные учреждения. Несмотря на множество заявлений ученых о (не оговоренных и недоказанных!) опасностях чрезмерного использования Интернета, практически нет исследований, которые связывали бы современные передовые исследования HCI и genAI с практической безопасностью их использования, включая рекомендации пользователям в отношении галлюцинаций ИИ, распространения и обнаружения ИИ, основанные на подделках и deepfake, искажения контента, зависящие от машинного обучения, и т.д. Это, опять же, ставит вопрос о том, ставятся ли в России такие цели в области стратегического регионального развития.
То же самое можно сказать и о гигиене интерфейса, genAI и безопасности пользователя. Гигиена интерфейса должна учитывать чрезмерное использование интерфейса и его последствия, а также различные условия эксплуатации интерфейса, включая домашние, офисные и образовательные учреждения. Несмотря на множество заявлений ученых о (не оговоренных и недоказанных!) опасностях чрезмерного использования Интернета, практически нет исследований, которые связывали бы современные передовые исследования HCI и genAI с практической безопасностью их использования, включая рекомендации пользователям в отношении галлюцинаций ИИ, распространения и обнаружения ИИ, основанные на подделках и deepfake, искажения контента, зависящие от машинного обучения, и т.д. Это, опять же, ставит вопрос о том, ставятся ли в России такие цели в области стратегического регионального развития.
Публичная сфера и КМ с широким участием
Несмотря на то, что онлайн-медиа и коммуникационные компетенции стали частью повседневной жизни в России, различия и расколы в публичной сфере и коммуникации в интересах социальных изменений в стране по-прежнему очевидны. В то время как, например, сегодня уровень проникновения Интернета в регионах России можно считать более или менее равномерным, исследование Гладковой и Рагнедды (2020) показало другие диспропорции, например, в доступности технологий мобильной связи или этнических СМИ в регионах с этническим разнообразием.
На наш взгляд, вышеупомянутые пробелы в социально-экономическом и ценностно-ориентированном развитии российских регионов и социальных макрогрупп до сегодняшнего дня отражаются в фрагментации российской медиасистемы, задокументированной нами десять лет назад (автор1 и соавтор, 2015), а также в политические предпочтения населения. Украинский конфликт еще больше углубил эти пробелы, вызвав, с одной стороны, волну эмиграции слоев (и их СМИ), которые не приняли логику открытой фазы конфликта, и, с другой стороны, патриотическую консолидацию оставшегося большинства.
На наш взгляд, вышеупомянутые пробелы в социально-экономическом и ценностно-ориентированном развитии российских регионов и социальных макрогрупп до сегодняшнего дня отражаются в фрагментации российской медиасистемы, задокументированной нами десять лет назад (автор1 и соавтор, 2015), а также в политические предпочтения населения. Украинский конфликт еще больше углубил эти пробелы, вызвав, с одной стороны, волну эмиграции слоев (и их СМИ), которые не приняли логику открытой фазы конфликта, и, с другой стороны, патриотическую консолидацию оставшегося большинства.
Это неизбежно влияет на видение властями развития компетенций КМ, основанных на широком участии: с одной стороны, демократическое гражданское участие в формах протеста становится все менее приемлемым; с другой стороны, гражданское участие в принятии неполитических решений (например, одобрение сообществом крупномасштабных региональных проектов и использование для этого поощряются и продвигаются услуги электронного управления), при этом растет число граждан, участвующих в них.
Это ставит вопрос о том, как региональные стратегии рассматривают цифровое гражданство в России, включая политическое и неполитическое гражданское участие, стимулируемое ростом числа КМ, поскольку они могут рассматривать его как актив, который отвечает целям неполитического участия пользователей, и как угрозу политическому истеблишменту на региональном уровне.
В целом, факторы странового и регионального уровня, влияющие на развитие КМ в российских регионах, многочисленны; ниже мы рассмотрим план нашего исследования, чтобы начать оценку того, как эти факторы были учтены в региональном стратегическом мышлении в России и как ожидается, будут развиваться КМ.
Это ставит вопрос о том, как региональные стратегии рассматривают цифровое гражданство в России, включая политическое и неполитическое гражданское участие, стимулируемое ростом числа КМ, поскольку они могут рассматривать его как актив, который отвечает целям неполитического участия пользователей, и как угрозу политическому истеблишменту на региональном уровне.
В целом, факторы странового и регионального уровня, влияющие на развитие КМ в российских регионах, многочисленны; ниже мы рассмотрим план нашего исследования, чтобы начать оценку того, как эти факторы были учтены в региональном стратегическом мышлении в России и как ожидается, будут развиваться КМ.
Методология
План исследования
В нашем исследовании мы рассмотрим стратегии российских регионов, рассчитанные до 2030 года и собранные в их окончательных версиях по адресу (ссылка). Наш подход носит исследовательский характер.
Отслеживание присутствия КМв региональных стратегиях
Оценка логики развития КМ, включая их интерпретацию в качестве цели, актива, предварительного условия для достижения других целей или вызова/угрозы
Анализ региональных различий в расстановке приоритетов КМ, установив набор критериев оценки и масштаб внимания к КМ в региональных стратегиях
Оценка взаимосвязи между несколькими параметрами регионального развития и масштабом приоритизации КМ, тем самым увязав развитие КМ с более широким социально-экономическим развитием российских регионов
Оценка связи КМ с цифровизацией и цифровой экономикой, человеческим капиталом в целом, участием в политической жизни и потенциалом регионального развития с помощью тематического исследования
Исследовательские вопросы
Мы используем контент-анализ в форме смешанного метода (количественно-качественный плюс качественное кодирование), как советует Криппендорфф (2019), чтобы определить и критически оценить связи между компетенциями КМ, с одной стороны, и другими аспектами регионального развития, указанными выше, с другой. другой.
Наши ожидания основаны на вышеупомянутом контекстуальном знании. Мы ожидаем, что регионы в разной степени будут стремиться к развитию компетенций КМ, причем регионы-лидеры также будут лидерами в использовании медиатизации в качестве стратегического актива. Мы также ожидаем, что при разработке КМ будет преобладать «инфраструктурное» мышление, но оно также будет связано с попытками разработать стратегию повышения медиаграмотности потребителей, в то время как стратегия цифрового гражданства будет определяться только с точки зрения умения использовать инициативы электронного управления, а не с точки зрения демократического участия в общественных обсуждениях.
Наши ожидания основаны на вышеупомянутом контекстуальном знании. Мы ожидаем, что регионы в разной степени будут стремиться к развитию компетенций КМ, причем регионы-лидеры также будут лидерами в использовании медиатизации в качестве стратегического актива. Мы также ожидаем, что при разработке КМ будет преобладать «инфраструктурное» мышление, но оно также будет связано с попытками разработать стратегию повышения медиаграмотности потребителей, в то время как стратегия цифрового гражданства будет определяться только с точки зрения умения использовать инициативы электронного управления, а не с точки зрения демократического участия в общественных обсуждениях.
Мы не ожидали, что использование genAI и мультимодального интерфейса займет много стратегического внимания по сравнению со средствами массовой информации и коммуникацией в уже более привычных социальных сетях и мессенджерах, но более развитые регионы предвидели бы их массовое внедрение и разработали стратегию его использования.
Мы также ожидаем, что потребительские компетенции будут рассматриваться как цель или ресурс, в то время как компетенции, основанные на участии, будут рассматриваться скорее как угроза существующему положению вещей, и будет существовать разделение между инициативами участия, связанными с государством, и инициативами участия на низовом уровне.
Исходя из этих ожиданий, мы разрабатываем следующие исследовательские вопросы для нашего исследовательского исследования; они служат только в качестве руководящих вопросов.
Мы также ожидаем, что потребительские компетенции будут рассматриваться как цель или ресурс, в то время как компетенции, основанные на участии, будут рассматриваться скорее как угроза существующему положению вещей, и будет существовать разделение между инициативами участия, связанными с государством, и инициативами участия на низовом уровне.
Исходя из этих ожиданий, мы разрабатываем следующие исследовательские вопросы для нашего исследовательского исследования; они служат только в качестве руководящих вопросов.
- Вопрос №1 (RQ1)Являются ли КМ объектом стратегического планирования в российских регионах и как можно охарактеризовать этот объект? Какова доминирующая логика(ы) рассмотрения КМ? Рассматриваются ли они как цели, активы, предпосылки или угрозы для регионального развития? Каково их отношение к человеческому капиталу?
- Вопрос №2 (RQ2)Существуют ли заметные региональные различия в приоритетности КМ? Можно ли ранжировать их в зависимости от того, какое внимание они уделяют КМ?
- Вопрос №3 (RQ3)Соотносится ли рейтинг разработанных КМ с основными параметрами развития российских регионов?
Сбор данных и выборка образцов
Проекты регионального развития всех регионов России собраны на специально разработанном правительственном портале (ссылка) и может быть доступен в цифровом виде.
В 2025 году начался следующий этап их пересмотра. Регионы расставили свои приоритеты на разные периоды времени; большинство регионов предложили стратегическое планирование на период с 2030 по 2035 год, однако есть случаи планирования до 2040 или даже 2045 года.
Мы проанализировали опубликованные (не во всех случаях имеющие статус регионального закона, поскольку процесс пересмотра все еще продолжается) тексты стратегий для 83 российских регионов, исключая спорные территории, которые присоединились к Российской Федерации с 2014 года, как из-за их спорного статуса, так и из-за нехватки данных о них. Общий объем оцениваемого текста превысил 12 000 стандартных страниц.
Разработанная кодовая книга включала девять переменных, из них четыре для метаданных и пять для существенного кодирования. Кодирование было в большей степени ориентировано на качество, поскольку цитаты, относящиеся к КМ, были выделены из текста, а затем закодированы/интерпретированы.
Мы проанализировали опубликованные (не во всех случаях имеющие статус регионального закона, поскольку процесс пересмотра все еще продолжается) тексты стратегий для 83 российских регионов, исключая спорные территории, которые присоединились к Российской Федерации с 2014 года, как из-за их спорного статуса, так и из-за нехватки данных о них. Общий объем оцениваемого текста превысил 12 000 стандартных страниц.
Разработанная кодовая книга включала девять переменных, из них четыре для метаданных и пять для существенного кодирования. Кодирование было в большей степени ориентировано на качество, поскольку цитаты, относящиеся к КМ, были выделены из текста, а затем закодированы/интерпретированы.
Мы определили область компетенции КМ (использование медиа, коммуникации, использование genAI или интерфейса), интерпретацию компетенции (цель, актив/ресурс, вызов, предварительное условие для достижения других целей, вызов/угроза или другое), приоритет развития (инфраструктурный, трудовой, человеческий капитал, повседневная жизнь или другое), а также тип компетенции КМ (потребительская, основанная на участии, другая); мы также отметили наличие подтверждающих статистических данных или других доказательств. Разработчиков также попросили оставить общие комментарии по их оценке (1) недостатков во взаимосвязи между человеческим капиталом и КМ; (2) уровня внимания к КМ (высокий, средний, низкий); (3) целей развития КМ, как они указаны в стратегиях.
Поскольку объем текста для кодирования был чрезмерным, мы наняли 10 программистов и протестировали количественные переменные («актуальность» и «интерпретация») с помощью каппа-теста Коэна, достигнув уровня 0,85 и 0,9 соответственно для переменных для каждой пары программистов. Кроме того, были проведены три групповых тренинга для того, чтобы скорректировать руководство и кодовую книгу для программистов и выработать единое понимание переменных и общее критическое видение.
Поскольку объем текста для кодирования был чрезмерным, мы наняли 10 программистов и протестировали количественные переменные («актуальность» и «интерпретация») с помощью каппа-теста Коэна, достигнув уровня 0,85 и 0,9 соответственно для переменных для каждой пары программистов. Кроме того, были проведены три групповых тренинга для того, чтобы скорректировать руководство и кодовую книгу для программистов и выработать единое понимание переменных и общее критическое видение.
Анализ данных и картографирование регионов
На основе таблиц кодов для каждой стратегии была разработана теоретическая шкала от 1 до 5 («очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий») для ранжирования регионов с точки зрения их внимания и приоритетности КМ; критерии для оценки данного региона были представлены в виде результат кодирования и приведены ниже.
Регионы были размечены в соответствии с масштабом, и с помощью бесплатного сервиса MapChart было проведено картографирование Российской Федерации для определения приоритетов КМ (mapchart.net/russia.html), это позволило наглядно представить наши результаты и обозначило макрорегионы с высоким и низким уровнем стратегического внимания к КМ, тем самым наглядно продемонстрировав новое измерение неравенства между регионами, которое вскоре проявится.
Затем мы провели корреляции Пирсона между разработанным рейтингом и четырьмя показателями регионального развития российских регионов. Одним из них стал «индекс экономического здоровья регионов», разработанный в 2025 году независимым рейтинговым агентством «Эксперт РА» (ссылка). Три других были основаны на данных, собранных Росстатом, Российским государственным статистическим агентством (данные за 2022 и 2023 годы, поскольку более поздние данные пока недоступны), и включали валовой региональный продукт, средний денежный доход на душу населения и процентную долю высшего образования среди работающего населения. Такая конфигурация показателей позволяет оценить связь КМ как с единичными, так и с комплексными показателями, независимыми и собранными государством, а также с денежными и неденежными переменными развития, что, в свою очередь, говорит о том, можно ли рассматривать КМ как комплексный показатель общего социально-экономического развития регионов.
Результаты нашего анализа представлены ниже.
Результаты нашего анализа представлены ниже.
Результаты: Поразительный дефицит внимания и несоответствия
между КМ и другими аспектами регионального развития
между КМ и другими аспектами регионального развития
RQ1a: «Пробел КМ» в региональном планировании
Самым важным результатом нашего исследовательского исследования является поразительное отсутствие внимания к компетенциям КМ в текстах стратегий.
В большинстве регионов даже связь между человеческим капиталом как целью и цифровизацией очень слаба и фрагментарна, в то время как компетенции населения, связанные с использованием медиа, коммуникацией, внедрением genAI или использованием мультимодальных интерфейсов, не обсуждаются. Ни один регион не упоминает какую-либо форму цифрового или коммуникативного капитала в качестве стратегической цели; более того, во всех регионах стратегические цели цифрового развития и развития человеческого капитала отделены друг от друга, и цифровая экономика по-прежнему редко является основой регионального развития, в том числе и человеческого капитала.
В целом, компетенции КМ не воспринимаются негативно; стратегии не рассматривают публичную коммуникацию как представляющую угрозу для людей в региональном измерении. Однако КМ не рассматриваются как цель – опять же, несмотря на широкое обсуждение растущей популярности моделей больших языков, чат-ботов и технологий распознавания лиц.
Ни та, ни другая цифровизация не обеспечивают основу для развития человеческого капитала с точки зрения КМ. Цифровые компетенции обсуждаются, но в основном в профессиональных аспектах, с точки зрения электронного управления (доступа к государственным цифровым услугам), образования в области информационных технологий, упрощения предоставления медицинских услуг, развития инфраструктуры и формирования доступной среды.
Ни та, ни другая цифровизация не обеспечивают основу для развития человеческого капитала с точки зрения КМ. Цифровые компетенции обсуждаются, но в основном в профессиональных аспектах, с точки зрения электронного управления (доступа к государственным цифровым услугам), образования в области информационных технологий, упрощения предоставления медицинских услуг, развития инфраструктуры и формирования доступной среды.
RQ1b: Доминирование «инфраструктурной» логики и «посреднических» функций КМ.
Основная логика, которую можно проследить почти во всех стратегиях, – это та, которую мы изложили выше для Китая, то есть логика «инфраструктура формирует компетенции».
Доминирующее видение заключается в том, что при наличии инфраструктуры (доступа к высокоскоростному Интернету, мобильным телекоммуникациям, государственным услугам на основе интерфейса, телемедицине, средствам дистанционного обучения или даже телевидению) люди смогут быстро и беспрепятственно освоить ее, не обсуждая возможные опасности, неравенство это может привести к возникновению или неправильному использованию и росту преступности, к которым это может привести.
Это еще более бросается в глаза на фоне телевизионных дискуссий о фейковых новостных атаках из «недружественных стран», недавнем резком росте активности в сфере цифрового мошенничества, массовом внедрении чат-ботов (и вызванном ими массовом раздражении), гаджетизации и автоматизации школьного образования, не говоря уже о последствиях для здоровья. чрезмерное использование смартфонов и персональных компьютеров на работе и дома.
Еще один вывод, который мы должны подчеркнуть, заключается в том, что компетенции КМ – и, шире, цифровые компетенции в целом – в основном играют роль промежуточных целей для достижения других ключевых региональных целевых показателей. Компетенции КМ, если они вообще упоминаются, варьируются в зависимости от их роли как недостаточно развитого актива, ресурса, не имеющего четкой ценности, и предпосылки для развития будущего экологически чистого бизнеса, цифровой экономики или просто более широкого потребления новостей (без указания какого-либо влияния, которое это может оказать на участие в политической жизни или осознанный жизненный выбор).
Еще один вывод, который мы должны подчеркнуть, заключается в том, что компетенции КМ – и, шире, цифровые компетенции в целом – в основном играют роль промежуточных целей для достижения других ключевых региональных целевых показателей. Компетенции КМ, если они вообще упоминаются, варьируются в зависимости от их роли как недостаточно развитого актива, ресурса, не имеющего четкой ценности, и предпосылки для развития будущего экологически чистого бизнеса, цифровой экономики или просто более широкого потребления новостей (без указания какого-либо влияния, которое это может оказать на участие в политической жизни или осознанный жизненный выбор).
RQ2: Региональные различия и масштаб стратегического внимания к КМ
В результате нашего анализа были выявлены критерии дифференциации стратегического внимания российских регионов к КМ.
Мы нанесли российские регионы на карту в соответствии со шкалой (Рисунок 1 представлен ниже)
Мы нанесли российские регионы на карту в соответствии со шкалой (Рисунок 1 представлен ниже)
- Полномасштабный акцент на системном цифровом развитии, включая видение общества с помощью искусственного интеллекта
- Акцент на КМ как отдельном типе современных компетенций
- Увязка КМ с человеческим капиталом и целями развития
- Создание образовательных программ для развития КМ
- Сосредоточьтесь на КМ как на цели расширения участия в политической жизни и гражданского контроля
- Сосредоточьтесь на конкурентных преимуществах развития искусственного интеллекта и КМ
- Сосредоточение внимания на «цифровом контуре» как главном аспекте регионального развития
- Сосредоточение внимания на достижении «цифровой зрелости» региона
- Развитие КМ в отдельных группах населения, в основном среди пожилых людей
- Концептуальная разработка комплексных цифровых инициатив, таких как «умный город»/»digital city», «цифровое общество» и т.д., которые предполагают развитие компетенций, связанных с цифровизацией, включая КМ
- Акцент на ИИ как всеобъемлющей новой технологии
- Двойной акцент на компетенциях в области искусственного интеллекта и (редко) КМ как активе и цели развития
- Ориентация на системную цифровизацию и развитие ИКТ в целом
- Целенаправленная цифровизация отдельных отраслей, таких как медицина, производство товаров, определенные виды бизнеса, сельское хозяйство, профессиональное образование или предоставление государственных бюрократических услуг
- Развитие цифровых компетенций в различных областях, но не в КМ
- Сосредоточьтесь на ресурсах/активах при обсуждении КМ
- Сосредоточьтесь на социальных сетях как канале коммуникации между властями и населением
- Сосредоточьтесь на информационной безопасности
- Информирование через Интернет Web 1.0
- Развитие онлайн-порталов в различных отраслях промышленности
- Ориентация на предоставление государственных услуг через Интернет Web 1.0
- Понимание роли медиа и коммуникаций в инфраструктуре
- Ориентация на сокращение внутрирегиональных различий в доступе к Интернету и телевидению
- Скудные упоминания о социальных сетях, искусственном интеллекте и/или интеллектуальных интерфейсах без какого-либо стратегического понимания, связанного с ними
- Ориентация на развитие Web 1.0
- Развитие доступа в Интернет
- Ориентация на традиционные медиа
- Понимание инфраструктуры и использования медиа и Интернета в целом
- Информационная поддержка государственных/региональных органов власти
- Никаких упоминаний о социальных сетях, искусственном интеллекте или интеллектуальных интерфейсах
Рисунок 1. Карта российских регионов в соответствии с их стратегическим вниманием и приоритетностью компетенций, связанных с медиатизацией (КМ)
Карта позволяет сформулировать несколько выводов
Во-первых, уровни стратегического внимания к КМ в российских регионах действительно различаются, и это различие не сводится к одному доминирующему уровню, а распределено более или менее равномерно по шкале. Таким образом, 21 регион России демонстрирует самый низкий уровень внимания к КМ, в то время как 8 регионов можно назвать лидерами по приоритизации КМ.
Во-вторых, существуют очевидные территориальные группировки регионов как с более высоким, так и с более низким уровнем приоритетности КМ. В частности, центральная часть России (от Вологодской до Самарской области), Северный Кавказ и Южная Сибирь (от Алтайского края до Республики Бурятия), а также некоторые регионы Дальнего Востока демонстрируют пренебрежительное отношение к КМ. На Урале можно выделить два «пояса»: менее развитый приуральский (от Республики Коми до Челябинской области), в то время как за Уралом есть высокоразвитый «пояс» (от Ямало-Ненецкого автономного округа до Новосибирской области), который может свидетельствовать о макрорегиональные культуры развития КМ.
В-третьих, в целом азиатская часть России выглядит неожиданно более развитой и продуманной с точки зрения КМ, в то время как европейская часть демонстрирует сочетание высокоразвитых и крайне слаборазвитых регионов, и это несоответствие может только увеличиться в течение периода времени, указанного в стратегиях.
Карта, а также результаты кодирования также позволяют проанализировать отдельные аспекты регионального неравенства при разработке стратегии развития КМ.
Использование средств массовой информации и коммуникативные компетенции: Аспекты использования средств массовой информации и медиатизированной коммуникации могут быть разделены на три обобщенных варианта, которые регионы предлагают для будущего развития: (1) подход «эры телевидения», при котором доступ к телевидению и телевизионное информирование граждан рассматриваются в качестве основной цели; (2) «эра социальных сетей», когда телевидение дополняется «новыми платформами», «платформами социальных сетей и мессенджерами» и «другими средствами коммуникации», что также означает социальные сети и мессенджеры; (3) «эра искусственного интеллекта», когда потребление медиа связано с компетенциями в области искусственного интеллекта и рассматривается как комплексное явление.
Во-вторых, существуют очевидные территориальные группировки регионов как с более высоким, так и с более низким уровнем приоритетности КМ. В частности, центральная часть России (от Вологодской до Самарской области), Северный Кавказ и Южная Сибирь (от Алтайского края до Республики Бурятия), а также некоторые регионы Дальнего Востока демонстрируют пренебрежительное отношение к КМ. На Урале можно выделить два «пояса»: менее развитый приуральский (от Республики Коми до Челябинской области), в то время как за Уралом есть высокоразвитый «пояс» (от Ямало-Ненецкого автономного округа до Новосибирской области), который может свидетельствовать о макрорегиональные культуры развития КМ.
В-третьих, в целом азиатская часть России выглядит неожиданно более развитой и продуманной с точки зрения КМ, в то время как европейская часть демонстрирует сочетание высокоразвитых и крайне слаборазвитых регионов, и это несоответствие может только увеличиться в течение периода времени, указанного в стратегиях.
Карта, а также результаты кодирования также позволяют проанализировать отдельные аспекты регионального неравенства при разработке стратегии развития КМ.
Использование средств массовой информации и коммуникативные компетенции: Аспекты использования средств массовой информации и медиатизированной коммуникации могут быть разделены на три обобщенных варианта, которые регионы предлагают для будущего развития: (1) подход «эры телевидения», при котором доступ к телевидению и телевизионное информирование граждан рассматриваются в качестве основной цели; (2) «эра социальных сетей», когда телевидение дополняется «новыми платформами», «платформами социальных сетей и мессенджерами» и «другими средствами коммуникации», что также означает социальные сети и мессенджеры; (3) «эра искусственного интеллекта», когда потребление медиа связано с компетенциями в области искусственного интеллекта и рассматривается как комплексное явление.
В последнем случае это в основном происходит в рамках «всеобъемлющих цифровых контуров» или таких программ, как «Цифровая экономика», «Развитие информационного общества» и т.д., которые связывают цифровое развитие, по крайней мере в некоторой степени, с целями диверсификации и продвижения в основных секторах производства, зеленой экономике, креативном бизнесе. экономика, туризм и гостиничный бизнес, человеческий капитал и территориальное развитие.
В первых случаях доминирует инфраструктурное видение, а развитие медиа- и коммуникационных компетенций остается «белым пятном»; похоже, что эти компетенции воспринимаются как саморазвивающиеся и не требующие особой заботы со стороны властей. Отстающие практически игнорируют компетенции КМ. Что еще хуже: они в основном игнорируют даже саму цифровизацию, уделяя больше внимания насущным проблемам, а не росту эффективности, обеспечиваемому, в частности, цифровизацией. Отстающие регионы, по-видимому, живут в условиях дефицита ключевых ресурсов (природных — таких как вода или энергия, а также промышленных и человеческих), и их стремление направлено на устранение этих дефицитов, чтобы перейти к четвертой экономической волне; цель цифрового перехода экономики и социальной жизни, столь очевидная в более развитых регионах, даже не становится частью их дискурса. Регионы среднего уровня, по-видимому, формулируют несколько более амбициозные цели в цифровой сфере, чем отстающие, но при этом, опять же, упускают из виду сферу медиа и коммуникации.
Таким образом, внимание к цифровизации экономики и цифровому человеческому капиталу (даже если это не КМ), очевидно, является показателем серьезного регионального неравенства. Эта логика, напоминающая пирамиду Маслоу, создает разрыв между регионами еще больший, чем ожидалось, поскольку в ближайшем будущем этот разрыв, скорее всего, увеличится, что приведет к росту благосостояния развитых регионов благодаря растущей эффективности цифрового производства и потребления.
Эта логика также может частично объяснить, почему компетенции КМ не находятся в центре внимания российских региональных стратегий. Нельзя сказать, что региональные власти не осведомлены о возможностях и опасностях, связанных с коммуникациями, genAI и интерфейсными сервисами. Однако точно так же, как сосредоточение внимания на цифровизации было бы роскошью для слаборазвитых регионов, большая забота о КМ по-прежнему была бы роскошью для более развитых регионов. Они сосредотачиваются на том, что, по их мнению, является либо чрезвычайными ситуациями, либо ключевыми конкурентными преимуществами, и медиатизация повседневной жизни пока не входит ни в один из этих списков.
В первых случаях доминирует инфраструктурное видение, а развитие медиа- и коммуникационных компетенций остается «белым пятном»; похоже, что эти компетенции воспринимаются как саморазвивающиеся и не требующие особой заботы со стороны властей. Отстающие практически игнорируют компетенции КМ. Что еще хуже: они в основном игнорируют даже саму цифровизацию, уделяя больше внимания насущным проблемам, а не росту эффективности, обеспечиваемому, в частности, цифровизацией. Отстающие регионы, по-видимому, живут в условиях дефицита ключевых ресурсов (природных — таких как вода или энергия, а также промышленных и человеческих), и их стремление направлено на устранение этих дефицитов, чтобы перейти к четвертой экономической волне; цель цифрового перехода экономики и социальной жизни, столь очевидная в более развитых регионах, даже не становится частью их дискурса. Регионы среднего уровня, по-видимому, формулируют несколько более амбициозные цели в цифровой сфере, чем отстающие, но при этом, опять же, упускают из виду сферу медиа и коммуникации.
Таким образом, внимание к цифровизации экономики и цифровому человеческому капиталу (даже если это не КМ), очевидно, является показателем серьезного регионального неравенства. Эта логика, напоминающая пирамиду Маслоу, создает разрыв между регионами еще больший, чем ожидалось, поскольку в ближайшем будущем этот разрыв, скорее всего, увеличится, что приведет к росту благосостояния развитых регионов благодаря растущей эффективности цифрового производства и потребления.
Эта логика также может частично объяснить, почему компетенции КМ не находятся в центре внимания российских региональных стратегий. Нельзя сказать, что региональные власти не осведомлены о возможностях и опасностях, связанных с коммуникациями, genAI и интерфейсными сервисами. Однако точно так же, как сосредоточение внимания на цифровизации было бы роскошью для слаборазвитых регионов, большая забота о КМ по-прежнему была бы роскошью для более развитых регионов. Они сосредотачиваются на том, что, по их мнению, является либо чрезвычайными ситуациями, либо ключевыми конкурентными преимуществами, и медиатизация повседневной жизни пока не входит ни в один из этих списков.
Компетенции, связанные с генами и интерфейсами: региональные различия
Подобное пирамиде Маслоу неравенство между наиболее и наименее процветающими регионами показывает не меньшее (или, скорее, даже большее) отношение к использованию genAI, продвинутых интерфейсов и распределенного управления данными (включая VR/AR, сервисы облачных вычислений, технологии блокчейна и т.д.).
Регионы–лидеры нацелены на продвижение ИИ в ключевых секторах экономики, рассматривая его как неизбежную тенденцию и потенциальный актив, однако, не замечая необходимости тщательного развития компетенций, связанных с ИИ на индивидуальном уровне, чтобы навыки граждан соответствовали меняющейся профессиональной и социальной реальности, основанной на средствах массовой информации. В то же время отстающие даже не упоминают в своих планах искусственный интеллект или продвинутый HCI, как будто они жили в другой реальности.
Компетенции потребителей в сравнении с компетенциями участников
Как можно догадаться, редкие упоминания о компетенциях КМ не ориентированы ни на удовлетворение потребностей потребителей, ни на расширение участия в политической жизни. Ориентация на потребителя немного более очевидна, но почти полностью подчинена «инфраструктурной» логике, описанной выше. Практически все регионы в целом рассматривают улучшение доступа к Интернету и увеличение потребления телевидения как (необъяснимые) средства повышения уровня жизни; очевидно, что лучший доступ как к Интернету, так и к новостям подразумевает больший выбор и лучшую ориентацию на потребительском рынке и в жизни в целом (но не в политической конкуренции). Регионы умалчивают о том, как КМ может способствовать повышению активности на местном уровне, формированию политической общественности, конкуренции между региональными партиями или культуре общественных дебатов и обдумывания.
Менее ожидаемым пробелом здесь, однако, является то, что регионы не ставят перед собой задачу вовлечения граждан в онлайн-сервисы голосования, предлагаемые государством по сотням региональных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Как отмечалось выше, мы ожидали, что вовлечение населения в медиатизированные, веб-ориентированные «общественные слушания» должно стать одной из ключевых целей, демонстрирующих демократический характер региональной власти по всей России и призванных повысить легитимность крупных национальных и региональных проектов развития. В начале 2020-х годов десятки тысяч российских граждан приняли участие в онлайн-голосовании за реконструкцию и развитие инфраструктуры; такая деполитизированная деятельность с участием общественности является доступным в современной России вариантом, который считается беспроигрышным как для властей, так и для граждан. Однако ни одна из этих медиатизаций участия в процессе принятия решений на местном уровне, ориентированная на легитимность, не рассматривается как цель развития.
RQ3: Стратегическое внимание к КМ как к показателю регионального развития
Как указывалось выше, мы рассчитали корреляции Пирсона с четырьмя переменными регионального развития (см. Таблица 2).
Таблица 2. Корреляции Пирсона между КМ и переменными развития в 83 регионах России
Примение. **: p ≤ 0,01; *: p ≤ 0,05. REH: Рейтинг экономического состояния региона, составленный Экспертным агентством РА, по состоянию на 2025 год составлял от 1 («наилучший») до 8 («наихудший»). ВРП: валовой региональный продукт по состоянию на 2023 год.
Результаты, приведенные в Таблице 2, можно прокомментировать следующим образом. Прежде всего, взаимосвязь независимых данных и данных, собранных государством, является достаточно хорошей. ВРП, заработная плата работников и уровень их высшего образования положительно коррелируют, что свидетельствует о системных различиях в социально-экономическом развитии российских регионов.
Во-вторых, все они демонстрируют правильную обратную зависимость от рейтинга экономического состояния региона (чем выше ВРП, заработная плата и уровень образования, тем ближе показатель REH к 1 по шкале от 1 до 8 от наилучшего к наихудшему). В-третьих, наш рейтинг КМ достаточно сильно коррелирует с REH (чем выше экономическое состояние региона, тем больше внимания уделяется КМ).
Во-вторых, все они демонстрируют правильную обратную зависимость от рейтинга экономического состояния региона (чем выше ВРП, заработная плата и уровень образования, тем ближе показатель REH к 1 по шкале от 1 до 8 от наилучшего к наихудшему). В-третьих, наш рейтинг КМ достаточно сильно коррелирует с REH (чем выше экономическое состояние региона, тем больше внимания уделяется КМ).
Обратные соотношения между ВРП и средней заработной платой подтверждают это видение: чем выше ВРП и заработная плата, тем ближе рейтинг КМк 1 («очень высокий»). Эти корреляции подтверждают наше видение того, что КМ могут стать сложным маркером микрорегионального экономического порядка/волны, в которой сосредоточено большинство населения данного региона. Единственной переменной из четырех, которая не имеет доказанной связи с рейтингом КМ, является процентная доля работающих с высшим образованием. Этот вопрос требует дальнейшего изучения в рамках более масштабного анализа компетенций. Конечно, анализ взаимосвязи между КМ и более широкими социально-экономическими порядками современных обществ требует гораздо более широкого спектра переменных для проверки, а также передовых методов тестирования; здесь мы только хотели продемонстрировать, что корреляции существуют, что делает КМ перспективным показателем регионального развития. развитие.
Пример Липецкой области: четыре аспекта человеческого капитала,
связанные с медиатизацией
связанные с медиатизацией
Мы более подробно рассмотрели Липецкую область, поскольку из 83 регионов здесь наиболее подробно рассматриваются проблемы КМ. В стратегии сформулированы вызовы и угрозы, связанные с медиаграмотностью и использованием социальных сетей, поставлены цели «обеспечения коммуникативного, ментального и информационного пространства города» (стр. 36), уделил особое внимание киберпреступности, проблематизировал доступ к традиционным СМИ таким образом, чтобы намекнуть на его влияние на участие в политической жизни, связал платформизацию с креативными индустриями и настаивал на популяризации знаний о цифровизации управления и общественной жизни (!).
В стратегии даже критиковалось доминирование финансируемых государством СМИ в газетном и телевизионном сегментах региональных медиарынков, а также ставился ряд важных задач по модернизации традиционных региональных СМИ (стр. 269 стратегии).
И все же, анализируя взаимосвязи между КМ и соответствующими концептуальными элементами стратегии, мы сформулировали четыре концептуальных пробела (которые мы называем «разобщениями») между КМ и другими концепциями развития. Вот как они выглядят:
И все же, анализируя взаимосвязи между КМ и соответствующими концептуальными элементами стратегии, мы сформулировали четыре концептуальных пробела (которые мы называем «разобщениями») между КМ и другими концепциями развития. Вот как они выглядят:
- Отход от цифровой экономики«Инфраструктурное» видение рассматривает цифровизацию как «волшебную палочку», сам по себе фактор роста и цель одновременно, а развитие цифровой экономики не включает в себя новые медиа/коммуникативные навыки для широких слоев населения. Интересно, что регион достаточно хорошо видит «растущий спрос на информационные услуги и услуги креативной индустрии, [а также] изменения в структуре потребления медиа в пользу новых общедоступных платформ» (стр. 264), но продолжает рассматривать «медиа» как телевидение и газеты несмотря на то, что они основаны на платформах. общение.
- Отсутствие связи с человеческим капиталомКак развитие традиционных медиа, так и цифровой экономики в стратегии полностью отделены от развития человеческого капитала. Они не упоминаются вместе, логически не взаимосвязаны, причинно-следственно не связаны. Единственным исключением, однако, является заявление о нехватке персонала в традиционных СМИ и конкуренции за квалифицированных специалистов между традиционными СМИ, «свободными агентами» (?) и брендами. В ответ на это регион... ставит перед собой цель повысить заработную плату работникам СМИ, чтобы предотвратить (!) их переход в новые медиа и бренд-медиа, а не стимулировать разнообразие цифрового медиа-ландшафта.
- Отрыв от политического участияУпоминается «вовлечение граждан в общественную жизнь» (стр. 279), но инструменты для этого описаны патерналистски («взаимодействие властей с лидерами общественного мнения», «обращение к людям на понятном им языке», «снижение коммуникативных барьеров, как вертикальных, так и горизонтальных»), и не ставятся четкие цели для обсуждения в отношении развития человеческого капитала, цифровой экономики или медиа- и коммуникационной инфраструктуры в регионе. С другой стороны, общественные коммуникации не рассматриваются как угроза политической стабильности и, в целом, воспринимаются как стратегическая область развития.
- Несоответствие потенциалу регионального развитияКак указывалось выше, КМ не используются в качестве параметра оценки регионального роста; и даже коммуникативная инфраструктура не используется в качестве четкого показателя, за исключением того, что в ближайшем будущем использование Интернета превысит 90%.
Вывод
В этой статье мы провели исследовательский анализ 83 стратегий российских регионов с точки зрения наличия и интерпретации человеческого капитала, связанного с медиатизацией, в частности, связанных с медиа компетенций (КМ) в области потребления МЕДИА, опосредованной социальной коммуникации, эксплуатации genAI и использования передовых интерфейсных технологий. услуги в повседневной жизни. В этом исследовании мы сосредоточились на трех вопросах: 1) наличие/отсутствие и интерпретация КМ как целей, активов, предварительных условий или вызовов/угроз; 2) взаимосвязи между региональным развитием, человеческим капиталом и медиатизацией, а не цифровизацией; и 3) видение КМ как потребительского, так и коллективного подхода.
Помимо их непосредственного значения в повседневной социальной жизни, мы рассматриваем КМ как уникальный показатель индивидуального развития и готовности к новой технологической волне; именно поэтому пробелы в стратегическом мышлении о КМ в российских регионах становятся все более очевидными. Мы обнаружили, что разработка стратегии развития КМ была недостаточной и основывалась на логике пирамиды Маслоу, когда более развитые регионы имели больше возможностей для перехода на цифровые технологии (что позволило немного задуматься о КМ), а менее развитые сталкивались с еще одним аспектом растущего неравенства, вызванного продолжающейся цифровизацией регионов-лидеров.
В результате нашей оценки мы смогли ранжировать регионы в соответствии с их стратегической приоритетностью в отношении КМ.
Мы обнаружили очевидные макрорегиональные различия, некоторые из которых (например, на Северном Кавказе) соответствуют известным экономическим разрывам; некоторые из них являются новыми.
Помимо их непосредственного значения в повседневной социальной жизни, мы рассматриваем КМ как уникальный показатель индивидуального развития и готовности к новой технологической волне; именно поэтому пробелы в стратегическом мышлении о КМ в российских регионах становятся все более очевидными. Мы обнаружили, что разработка стратегии развития КМ была недостаточной и основывалась на логике пирамиды Маслоу, когда более развитые регионы имели больше возможностей для перехода на цифровые технологии (что позволило немного задуматься о КМ), а менее развитые сталкивались с еще одним аспектом растущего неравенства, вызванного продолжающейся цифровизацией регионов-лидеров.
В результате нашей оценки мы смогли ранжировать регионы в соответствии с их стратегической приоритетностью в отношении КМ.
Мы обнаружили очевидные макрорегиональные различия, некоторые из которых (например, на Северном Кавказе) соответствуют известным экономическим разрывам; некоторые из них являются новыми.
Последнее может быть даже более важным, поскольку мы также показали, что стратегическое внимание к КМ коррелирует с общим региональным развитием, как на основе независимых данных, так и данных, собранных государством. Это означает, что обнаружение новых «поясов развития» в отношении КМ может быть признаком различий, которые еще не выявлены в региональном анализе – или которые еще только формируются из-за неправильно поставленных региональных целей.
Мы также выявили четыре концептуальных отличия КМ от цифровой экономики, человеческого капитала в целом, цифрового гражданства (особенно участия в политической жизни, даже при неполитическом участии в принятии решений на местном уровне) и потенциала регионального развития. В основном это связано с «инфраструктурным» видением развития в целом и, в частности, с отсутствием компетентностно-ориентированного подхода к медиатизированному человеческому капиталу.
Региональные различия, выявленные в нашей выборке по всей стране, одновременно создают новое измерение неравенства и - возможно, неожиданно – вселяют надежду, поскольку регионы, которые уже определили рамки цифровой экономики и цифрового общества в рамках своих стратегий, могут стать примером проб и ошибок для своих все еще отстающих коллег. Мы также надеемся, что обнаруженный вакуум внимания к компетенциям, связанным с медиатизацией, является временным и быстро исчезнет в условиях стремительного роста медиатизации во всем мире.
Мы также выявили четыре концептуальных отличия КМ от цифровой экономики, человеческого капитала в целом, цифрового гражданства (особенно участия в политической жизни, даже при неполитическом участии в принятии решений на местном уровне) и потенциала регионального развития. В основном это связано с «инфраструктурным» видением развития в целом и, в частности, с отсутствием компетентностно-ориентированного подхода к медиатизированному человеческому капиталу.
Региональные различия, выявленные в нашей выборке по всей стране, одновременно создают новое измерение неравенства и - возможно, неожиданно – вселяют надежду, поскольку регионы, которые уже определили рамки цифровой экономики и цифрового общества в рамках своих стратегий, могут стать примером проб и ошибок для своих все еще отстающих коллег. Мы также надеемся, что обнаруженный вакуум внимания к компетенциям, связанным с медиатизацией, является временным и быстро исчезнет в условиях стремительного роста медиатизации во всем мире.
Выражаем признательность.
[анонимизировано для целей экспертной оценки]
[анонимизировано для целей экспертной оценки]